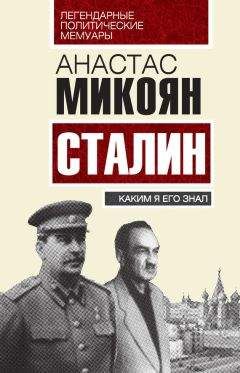Ленинградское ЧК возглавлял Медведь, очень хороший товарищ, один из близких, закадычных друзей Кирова. Они вместе ездили на охоту в карельские леса. С Медведем Киров был неразлучен. Но в эти трагические дни его не было в Ленинграде, и он не мог нести ответственности за это дело. Однако Медведь был снят с работы и, в качестве наказания, направлен начальником лагеря заключенных на Севере.
В моей памяти осталось совершенно непонятным поведение Сталина во всем этом: его отношение к Ягоде, нежелание расследовать факты. В другом случае он расстрелял бы сотни людей, в том числе чекистов, как в центре, так и на местах, многих, может быть, и невинных, но навел бы порядок. Когда же необходимость серьезных мер вытекала из таких поразительных обстоятельств гибели Кирова, он этого не сделал.
Потом мы с Серго обменивались мнениями по этому вопросу, удивлялись, поражались, не могли предположить и понять.
* * *После убийства Кирова началось уничтожение руководящих работников. Сначала в Наркомтяжмаше под видом вредительства начали арестовывать отдельных директоров предприятий, которых хорошо знал Орджоникидзе и которым он доверял, затем арестовали нескольких директоров сахарных заводов.
Орджоникидзе протестовал против ареста своих директоров, доказывал, что у них могут быть ошибки, просчеты, но не вредительство.
Я также жаловался Сталину. Я ему говорил: «Ты сам правильный лозунг выдвинул, что кадры решают все, а директора заводов – это важная часть кадров в промышленности!»
Но спорить со Сталиным в этой части было трудно. Он выслушивал наши возражения, а потом предъявлял показания арестованных, в которых они признавались во вредительстве.
Здесь мне хотелось бы коснуться неблаговидной роли, которую играл Каганович.
Мы с Орджоникидзе были крайне недовольны Кагановичем, когда он в начале 30-х гг., будучи секретарем МК и секретарем ЦК, в отличие от предыдущей товарищеской практики, стал возвеличивать Сталина по всякому поводу и без повода на собраниях Московской организации, восхвалять его. Сталину это нравилось, хотя в узком кругу он однажды выругал Кагановича: «Что это такое, почему меня восхваляете одного, как будто один человек все дела решает? Это эсеровщина, эсеры выпячивают роль вождей».
Вот в таком духе Сталин отчитывал его в узком кругу. Мы были довольны этими словами, и чувствовалось, что Сталин тоже доволен. Нам казалось, что Каганович перестанет это делать или, в крайнем случае, пресса, которая публикует выступления руководителей партии, а ею руководит ЦК, не станет эти хвалебные речи Кагановича печатать. Однако восхваление продолжалось и усиливалось. И получалось, что Каганович выпячивает роль Сталина, а мы, как и раньше, без нужды не славословили его. И Сталин, как и многие коммунисты, мог подумать, что мы против вождя. Мы же тогда не были против Сталина, наоборот, поддерживали его, хотя и знали его ошибки. Как бы то ни было, восхваление Сталина постепенно стало лексиконом для всей партии. И если не хвалишь Сталина сверх меры, а то и возражаешь ему, воспринималось это так, что ты против Сталина, и значит, против партии в целом.
Это обстоятельство создало дополнительную трудность в наших попытках остановить Сталина, когда он начал необоснованные репрессии, использовав убийство Кирова, как предлог для этих репрессий.
При проведении репрессий Сталин, помимо карательных органов, опирался и на некоторых своих сподвижников, в частности на Маленкова. Маленков – образованный инженер-электрик, культурный, сообразительный, умеющий иметь дело с людьми. Он никогда не грубил, вел себя скромно. Маленков очень боялся Сталина и, как говорится, готов был разбиться в лепешку, чтобы неукоснительно выполнить любые его указания. Это свойство Маленкова было использовано Сталиным в период репрессий, когда он посылал Маленкова на места.
* * *Как-то в 1937 г. я был у Сталина. Он достает документ ОГПУ и говорит, что мой заместитель по Наркомпищепрому Беленький занимается в наркомате вредительством и что его надо арестовать.
Я знал Беленького как добросовестного, честного работника. Энергичный, активный – таким все знали его в наркомате. Я его знал еще с 1919 г. по Баку. Он, правда, был эсером, но потом стал коммунистом. Я его даже как противника уважал. Много лет с ним работал и мог за него поручиться. Поэтому, не глядя в документ, сказал: «Ты же сам его знаешь!»
Сталин прореагировал на это очень нервно. Стал доказывать, что Беленький подхалим, лебезил передо мной, надувал меня, а я слепой в вопросах кадров, что на него есть показания.
Резкая и острая полемика была у меня со Сталиным. Он грубил, говорил мне, что я не понимаю ничего в кадрах, вредителей терплю, что подхалимов люблю, защищаю их. Я ничего не мог сделать в отношении Беленького, и его тогда все-таки арестовали.
Прошла неделя, вызывает меня Сталин, дает протокол допроса Беленького. «Вот смотри, – говорит, – признался во вредительстве. Ручался за него, вот читай!» Читаю и узнаю о невероятных вещах. Говорю Сталину: «Это невероятные вещи, таких вредительств даже и нет!» Сталин говорит: «Он же пишет, сам признался!»
Какой это удар был по мне! Черт его знает, думал я, что за человек этот Беленький, но мне все же не верилось. «Я тебе дал факты, – говорил Сталин, вот смотри, ты же спорил, защищал его».
Такая же история повторилась в 1937 г. при аресте Одинцова, начальника Главсахара. С ним я работал в Ростове в 1926 г., где он был начальником земельного отдела. Выходец из крестьян, хороший, честный человек, имел большой практический опыт.
После него был арестован Гроссман, начальник жировой промышленности, уважаемый в наркомате человек.
Та же участь постигла моего заместителя Яглома. Он ранее был сторонником Томского, его правой рукой в ВЦСПС. После того, как Томский покончил жизнь самоубийством, Яглом был переведен на хозяйственную работу, работал у меня. Способный человек, организатор хороший, я его поддерживал.
Емельянов, начальник Главстроя, пользовавшийся моим доверием, знающий дело работник, тоже был репрессирован.
По поводу ареста этих и некоторых других лиц проводились примерно такие же разговоры, как и в отношении Беленького. ГПУ требовало их ареста, я их защищал, Сталин настаивал, и их арестовали. Через некоторое время давали читать протоколы, где они признавали выдвинутые им обвинения. Этим Сталин доказывал мою слабость в отношении кадров.
Но, даже получая показания этих товарищей из рук Сталина, я не верил им, но не в силах был что-либо сделать.
Оглядываясь на прошлое, сейчас можно констатировать, что тогда обычные недостатки, аварии (а как им не быть, когда было плохое оборудование, не хватало квалифицированных кадров) объявлялись вредительством, в то время как сознательного вредительства, может быть, за редчайшим исключением, по существу и не было.