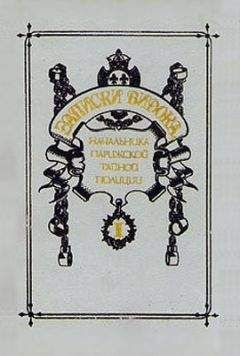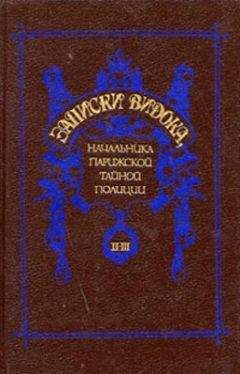— Слушай и смотри…
Тогда он вынул из сумки четыре четырехугольных пакета, таких, какие бывают в аптеках, и, по-видимому, содержащих специфическое лекарство; затем сказал:
— Ты видишь четыре фермы, построенные на некотором расстоянии одна от другой: пройди в них задами, стараясь всячески не быть положительно никем замеченным. Ты войдешь в хлева или конюшни и высыпешь в ясли эти четыре порошка… Особенно берегись, чтобы тебя не увидели… Остальное уже мое дело.
Я сделал возражение, что меня могут застать в ту минуту, как я буду лезть на забор, остановить и наделать весьма затруднительных вопросов. Я наотрез отказался, несмотря на перспективу получки крон; все красноречие Христиана не могло изменить моего решения. Я даже сказал ему, что тотчас же его оставлю, если он не объявит мне моего настоящего занятия и не объяснит тайну размена денег, которая мне кажется страшно подозрительной. Такое требование, по-видимому, смутило его, и, как читатель увидит, он вздумал отделаться полуоткровенностью.
— Где моя родина? — сказал он, отвечая на мой последний вопрос. — У меня ее нет… Мать моя, повешенная год тому назад в Темешваре, в то время, как я явился на свет в одной из деревень Карпатских гор, принадлежала к цыганскому табору, кочевавшему по границам Венгрии и Банната… говорю, к цыганскому, чтобы тебе было понятнее, хотя нас не так зовут; промеж себя мы называемся Romamichels, на языке, которому нам запрещено учить кого бы то ни было; нам также запрещено путешествовать в одиночку, отчего мы кочуем толпою от пятнадцати до двадцати человек. Мы долго во Франции промышляли колдовством с помощью веры в порчу и в сглаз; теперь это ремесло идет плохо: мужик француз стал слишком проницателен, поэтому мы бросились во Фландрию; там более суеверия, и различие монет дает нам возможность успешно вести свое дело… Я три месяца пробыл в Брюсселе по особенным делам, но теперь я все покончил и через три дня присоединюсь к своему табору на мехельнской ярмарке… От тебя зависит пристать к нам или нет… Ты мог бы быть нам полезным, но только без ребячеств, конечно!!!
Отчасти затруднительное положение и незнание, куда приклонить голову, отчасти любопытство и желание довести приключение до конца заставили меня согласиться следовать за Христианом, не зная хорошенько, на что я мог быть ему годен. На третий день мы прибыли в Мехельн, где он объявил, что вернемся в Брюссель. Пройдя город, мы остановились в Лувенском предместье, пред весьма жалким домишком; почерневшие ставни его были изборождены глубокими трещинами и разбитые стекла заменялись огромными пуками соломы. Была полночь; я имел возможность делать свои наблюдения при лунном свете, потому что прошло добрых полчаса, пока пришла отворить нам одна из страшнейших старушенций, которых мне когда-либо приходилось видеть. Нас ввели в обширную залу, где человек тридцать обоих полов курили и пили, беспорядочно разместившись в угрожающих или неприличных позах. У мужчин под синими балахонами с красным шитьем надеты были голубые бархатные куртки с серебряными пуговицами, какие встречаются у погонщиков лошаков в Андалузии; все женщины были в одежде ярких цветов; иные лица были ужасны, несмотря на праздничную обстановку. Однообразный звук барабана, сопровождаемый воем двух собак, привязанных к ножкам стола, аккомпанировал странные песни, которые можно было принять за погребальные. Дым от табаку и дров, наполнявший этот вертеп, едва позволял наконец различить посреди комнаты женщину в ярко-красном тюрбане, которая танцевала дикий танец, принимая при этом самые сладострастные позы.
При нашем входе праздник прервался. Мужчины подошли подать руку Христиану, женщины его поцеловали, затем все глаза устремились на меня, который стоял перед ними в довольно смущенной позе. Я слышал про цыган множество историй, не имевших в себе ничего успокоительного. Мое беспокойство могло внушить их недоверие, они легко могли сделать со мной что угодно, и никто никогда не узнал бы о том, потому что никто не должен был знать о моем пребывании в этом притоне. Мое беспокойство сделалось настолько заметным, что поразило Христиана, который надеялся меня ободрить сообщением, что мы находимся у Герцогини, в полнейшей безопасности. Во всяком случае аппетит заставил меня принять участие в празднестве; кружка так часто наполнялась можжевеловой водкой и так часто опустошалась, что я почувствовал потребность улечься в постель. Когда я сообщил об этом Христиану, он повел меня в соседнюю комнату, где на свежей соломе уже спали некоторые цыгане. Я не отличался особенной разборчивостью, но не мог не заметить своему хозяину того, что он, всегда имевший хорошие ночлеги, теперь выбрал столь плохой. На это он отвечал, что везде, где находились дома племени Romamichels, обязательно было останавливаться в них под опасением быть заподозренным в вероломстве и понести за то наказание. Впрочем, на этом солдатском ложе улеглись и женщины и дети, и их скорый сон показал, что они к нему привыкли.
С рассветом все были на ногах и принялись совершать туалет. Если бы не их резкие черты, не волосы, черные как смоль, если бы не лоснящаяся, медного цвета кожа, то я едва ли бы узнал моих вчерашних сотоварищей. Мужчины, одетые богатыми голландскими барышниками, с кожаными мешками за поясом, как их обыкновенно можно было встретить на реке Пуаси. Женщины, увешанные золотыми и серебряными украшениями, имели костюмы крестьянок Зеландии. Даже дети, бывшие вчера в лохмотьях, теперь были чисто одеты и старались состроить другую физиономию. Вскоре все вышли из дома и направились различными дорогами, чтобы не прийти вместе на рынок, куда уже стекались толпы из соседних деревень. Христиан, видя, что я намерен за ним следовать, сказал, что я ему не нужен во весь день и могу отправляться, куда мне угодно, до самого вечера, когда мы должны были сойтись опять у Герцогини.
Еще наконец он сказал мне, что насчет моего ночлега с табором не было ничего решено; поэтому я начал с найма себе ночлега в гостинице. Затем, не зная, как убить время, отправился я на ярмарку; не успел я прийти, как нос к носу столкнулся с прежним нашим батальонным офицером, по имени Мальгаре, которого знал в Брюсселе занимающимся в Cafe Turc составлением довольно подозрительных партий. После первых приветствий он спросил о причине моего пребывания в Мехельне. Я рассказал ему целую историю; он со своей стороны сделал то же относительно своей поездки, и мы оба остались довольны, каждый воображая, что обманул другого. Слегка закусивши, мы возвратились на ярмарку, и во всех местах, где было стечение народа, я встречал несколько нахлебников Герцогини. Сказавши старому знакомому, что я никого не знал в Мехельне, я старался от них отворачиваться, чтобы не быть узнанным: я не намерен был признаваться в таком знакомстве. Но мой спутник был слишком хитер, чтобы позволить себя обмануть.