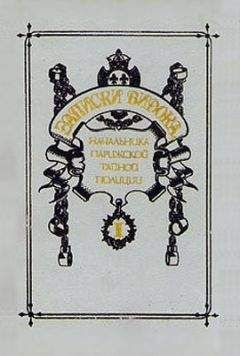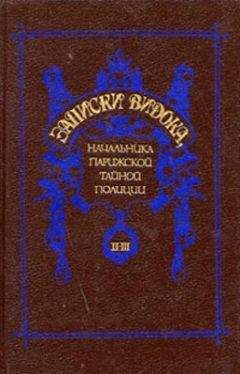— Вот, — заметил он, глядя на меня пристально, — странно, что эти люди смотрят на вас так внимательно… Или вы их знаете?
Я отвечал, не оборачивая головы, что даже не имею понятия, кто такие они.
— Кто они такие? — отвечал мой собеседник. — С удовольствием сообщу вам это… предполагая, что вы того не знаете… Это воры!
— Воры! — воскликнул я. — А почем вы знаете?
— Вы сами это узнаете тотчас же, если последуете за мною; можно держать большое пари, что мы недалеко уйдем, чтобы видеть их за делом! Да вот посмотрите-ка лучше!
Действительно, поднявши глаза к группе, образовавшейся у зверинца, я ясно увидел, как один из мнимых барышников утащил кошелек у толстого содержателя зверей и как последний после разыскивал его по всем своим карманам самым тщательным образом. Цыган же вошел в лавку ювелира, где уже были две его товарки-зеландки, и спутник мой уверял, что он не выйдет оттуда, не стянувши нескольких драгоценных вещей, которые им показывали. Мы оставили свой наблюдательный пост, чтобы идти вместе обедать. После обеда, видя, что офицер расположен поболтать, я стал упрашивать его подробнее рассказать мне, что это были за люди, на которых он обратил мое внимание, и добавил, что как бы ему там ни казалось, а я имею о них весьма сбивчивое понятие. Наконец он решился удовлетворить мое любопытство и сообщил следующее:
«В гентской тюрьме, где я провел шесть месяцев несколько лет тому назад за маленькую партию с поддельными игральными костями, я имел случай узнать двух господ из этой шайки, которую нахожу здесь в Мехельне; мы сидели в одной палате. Так как я выдавал себя за отъявленного вора, то они доверчиво рассказали мне свои фокусы и даже познакомили со всеми подробностями своей странной жизни. Они прибыли из молдавских деревень, где сто пятьдесят тысяч их братии прозябают, подобно евреям в Польше, не имея возможности занять другой должности, кроме должности палача. Имя их разнится по странам, где они находятся; так в Германии их зовут цигинер (ziguiners), в Англии — жипсе (gipsy), в Италии — зенгари (zingari), в Испании — гитано (gitanos), и наконец во Франции и Бельгии — богемцы (bohemiens); они путешествуют по всей Европе, занимаясь самыми унизительными и самыми опасными ремеслами: стригут собак, гадают, склеивают посуду, лудят медь, угощают отвратительной музыкой у дверей гостиниц, спекулируют шкурами кроликов и обменивают иностранную монету.
Они занимаются также продажей специфических средств от болезней животных и для большего сбыта подсылают на фермы своих доверенных, которые под каким-либо предлогом входят в хлева и насыпают в ясли какого-нибудь снадобья, от которого животные заболевают. Затем являются они сами, и их принимают с распростертыми объятиями. Зная причину болезни, они легко уничтожают зло, и доверчивый земледелец не находит слов, как выразить им свою благодарность, Это еще не все; уходя с фермы, они осведомляются, нет ли у хозяина монет такого-то и такого-то года, того или другого чекана, обещая купить их дороже. Заинтересованный крестьянин, как всякий, редко и с трудом имеющий случаи зашибить лишний грош, спешит показать им свою казну, из которой часть они всегда ухитряются украсть. Кто поверит, что этот маневр они иногда употребляют несколько раз безнаказанно в одном и том же доме? Пользуясь этими обстоятельствами и знанием местности, они указывают своим товарищам по ремеслу уединенные, богатые фермы и средства туда проникнуть, конечно, получая за это свою долю барыша».
Мальгаре сообщил еще много о цыганах, что заставило меня принять твердое намерение немедленно оставить это опасное общество. Он все еще говорил, поглядывая по временам на улицу, в окно, у которого мы обедали. Вдруг раздался его возглас: «Взгляни, пожалуйста, на этого цыгана, он только что выпущен из гентской тюрьмы!» Я взглянул и, к удивлению, увидал… Христиана, шедшего весьма скоро и с озабоченным видом. Я не мог воздержаться от восклицания. Мальгаре, пользуясь тревогой, в которую повергли меня его открытия, без труда заставил меня рассказать ему, каким образом я сошелся с цыганами. Видя, что я твердо решился уйти от них, он предложил мне отправиться в Куртре, где ему предстояло, как он говорил, составить несколько хороших партий. Взявши из гостиницы свои вещи, принесенные туда от Герцогини, я отправился опять в путь с новым товарищем; но мы не нашли в Куртре ожидаемых лиц, которых Мальгаре рассчитывал пощипать, и вместо выигранных денег вылетели наши собственные. Не надеясь более их дождаться, мы вернулись в Лилль. У меня еще была сотня франков. Мальгаре стал на них играть и проиграл их вместе с остатком собственных. Впоследствии я узнал, что он сговорился со своим партнером обобрать меня.
В такой крайности мне пришлось прибегнуть к своим знаниям: несколько фехтовальных учителей, которым я сообщил о своем затруднительном положении, устроили в мою пользу ассо[3], доставши мне сотню талеров. С этой суммой, на время избавившей меня от нужды, я снова начал посещать общественные увеселения, балы и т. п. В это-то время я заключил связь, последствия которой решили судьбу всей моей жизни. Нет ничего проще начала этого важного эпизода моей истории. Я встретился с одной камелией, с которой вскоре вошел в интимные отношения. Франсина, так ее звали, казалась весьма расположенной ко мне и беспрестанно уверяла в своей верности, что не мешало ей иногда тайком принимать у себя инженерного капитана. Раз я застаю их за ужином наедине у трактирщика, на площади Риур; в страшной ярости я бросаюсь на них с кулаками. Франсина за благо рассудила бежать, но товарищ ее остался. И вот возникла жалоба на мое насилие; меня арестуют и увозят в тюрьму Petit-Hotel. Во время разбирательства дела меня часто навещали многие дамы из моих знакомых, поставивших своей обязанностью утешать меня. Франсина узнает об этом, ревность ее возбуждается, она спроваживает беднягу капитана, отказывается от жалобы, которую вместе с ним принесла на меня, и в заключение просит дозволить ей видеться со мной; я имел слабость согласиться. Судьи сочли этот факт за злоумышленный заговор против капитана между мною и Франсиной. Я оказался присужденным к заключению в тюрьме на три месяца.
Из Petit-Hotel меня препроводили в Башню Святого Петра, где засадили в отдельную комнату, называвшуюся Oeil de Boeuf. Франсина занимала у меня одну половину дня, а другую я проводил в обществе арестантов. Между ними были два фельдфебеля, Груар и Гербо (последний — сын сапожника), оба осужденные за подлог, и крестьянин Буатель, осужденный на шесть лет заключения за кражу зернового хлеба. Буатель, будучи отцом многочисленной семьи, постоянно жаловался, что у него отняли возможность обрабатывать его маленький участок, который только его усилиями мог быть поставлен в надлежащее состояние. Несмотря на сделанный им проступок, им интересовались, или скорее его детьми, и многие из обывателей ходатайствовали за него, но безуспешно; бедняк в отчаянии часто повторял, что заплатил бы очень порядочную сумму за свое освобождение. Груар и Гербо, находившиеся в Башне Святого Петра до отправления в каторжные работы, решились быть ему полезными с помощью прошения, которое они сочинили сами. Составленный ими план был для меня весьма гибелен.