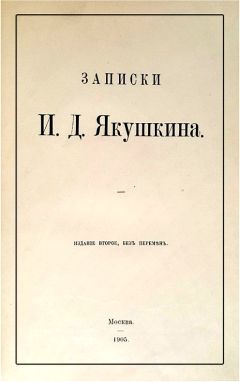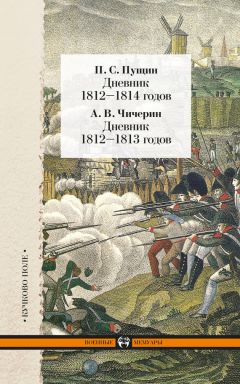II
После 14-го декабря многие из членов Тайного Общества были арестованы в Петербурге; я оставался на свободе до 10-го января. В этот день вечером я спокойно пил дома чай, вдруг вызвал меня полицеймейстер Обрезков и объявил, что ему надобно переговорить со мной наедине. Я повел его к себе в комнату. Он требовал от меня моих бумаг. Я объявил ему, что у меня никаких бумаг нет, а что если бы и были такие, которые могли быть для него любопытны, то я бы имел все время их сжечь. Я ожидал ареста и нарочно положил на стол листок с исчислениями о выкупе крепостных крестьян в России, надеясь, что этот листок возьмут вместе со мной, что он, может быть, обратит на себя внимание правительства. Я предложил Обрезкову взять эти исчисления, но он отвечал мне, что эти цифры ему нисколько не нужны. После этого он посоветовал мне одеться потеплее и пригласил ехать с собой. К отъезду у меня было уже все приготовлено заранее. Я зашел, в сопровождении полицеймейстера, проститься с женой, сыном и тещей. Обрезков отвез меня к обер-полицеймейстеру Дмитрию Ивановичу Шульгину, который встретил меня словами: «Вы много повредили себе тем, что сожгли свои бумаги». Я отвечал, что не жег никаких бумаг, но что, ежели бы имел опасные для себя бумаги, то, зная, что каждый день арестуются разные лица, я имел бы все время сжечь их. «Не может быть, чтоб у вас не было каких письмен»(sic), сказал мне на это обер-полицеймейстер, «потому что вас учили читать и писать; вы верно получаете и какие-нибудь письма и отвечаете на них». — У меня лежат на столе, сказал я ему, два письма, одно от сестры, другое из деревни от старосты. Шульгин с радостью сказал мне, что больше ничего и не нужно, и тотчас послал Обрезкова за этими письмами. Когда я остался вдвоем с Шульгиным, мы разговорились с ним, и он мне признался, что ему необходимо было хоть одно письмо, потому что в бумаге, при которой должны были меня отправить и которая была подписана князем Голицыным, было сказано, что со мной отправляются найденные у меня бумаги. Вскоре Обрезков возвратился с письмами и сочинением Теэра, которое он, будучи пьян, захватил у меня на столе.
Я был отправлен в Петербург с частным приставом, который и привез меня прямо в главный штаб. Тут какой-то адъютант повел меня к Потапову. Потапов был очень вежлив и отправил меня в Зимний дворец к с.-петербургскому коменданту Башуцкому. Башуцкий распорядился, и меня отвели в одну из комнат нижнего этажа Зимнего дворца. У дверей и окна поставлено было по солдату с обнаженными саблями. Здесь провел я ночь и другой день. Вечером повели меня на верх, и к крайнему моему удивлению я очутился в Эрмитаже. В огромной зале, почти в углу, на том месте, где висел портрет Климента IX, стоял раскрытый ломберный стол, и за ним сидел в мундире генерал Левашев. Он пригласил меня сесть против него и начал вопросом; Принадлежали ли вы к Тайному Обществу? Я отвечал утвердительно. Далее он спросил: Какие вам известны действия Тайного Общества, к которому вы принадлежали? Я отвечал, что собственно действий Тайного Общества я никаких не знаю.
— Милостивый государь, — сказал мне тогда Левашев, — не думайте, чтобы нам ничего не было известно. Происшествия 14-го числа были только преждевременною вспышкою, и вы должны были еще в 1818 году нанести удар императору Александру.
Это заставило меня призадуматься; я не полагал, чтобы совещание, бывшее в 18-м году в Москве, могло быть известно.
— Я даже вам расскажу, — продолжал Левашев, — подробности намереваемого вами цареубийства; из числа бывших тогда на совещании ваших товарищей — на вас пал жребий.
— Ваше превосходительство, это не совсем справедливо; я вызвался сам нанести удар императору и не хотел уступить этой чести никому из моих товарищей.
Левашев стал записывать мои слова.
— Теперь, милостивый государь, — продолжал он, — не угодно ли вам будет назвать тех из ваших товарищей, которые были на этом совещании.
— Этого я никак не могу сделать, потому что, вступая в Тайное Общество, я дал обещание никого не называть.
— Так вас заставят назвать их. Я приступаю к обязанности судьи и скажу вам, что в России есть пытка.
— Очень благодарен вашему превосходительству за эту доверенность; но должен вам сказать, что теперь еще более, нежели прежде, я чувствую моею обязанностью никого не называть.
— Pour cette fois, je ne vous parle pas comme votre juge, mais comme un gentilhomme votre égal, et je ne conçois pas, pourquoi vous voulez être martyr pour des gens, qui vous ont trahi et vous ont nommé.
— Je ne suis pas ici pour juger la conduite de mes camarades, et je ne dois penser qu’à remplir les engagements, que j’ai pris en entrant dans la Société!
— Все ваши товарищи показывают, что цель Общества была заменить самодержавие представительным правлением.
— Это может быть, — отвечал я.
— Что вы знаете про конституцию, которую предполагалось ввести в Россию?
— Про это я решительно ничего не знаю.
Действительно, про конституцию Никиты Муравьева я не знал ничего в то время, и хотя, в бытность мою в Тульчине, Пестель и читал мне отрывки из Русской Правды, но, сколько могу припомнить, об образовании волостных и сельских обществ.
— Но какие же были ваши действия по Обществу? — продолжал Левашев.
— Я всего более занимался отысканием способа уничтожить крепостное состояние в России.
— Что же вы можете сказать об этом?
— То, что это такой узел, который должен быть развязан правительством, или, в противном случае насильственно разорванный, он может иметь самые пагубные последствия.
— Но что же может сделать тут правительство?
— Оно может выкупить крестьян у помещиков.
— Это невозможно! Вы сами знаете, как русское правительство скудно деньгами.
Затем последовало опять приглашение назвать членов Тайного Общества, и после отказа Левашев дал мне подписать измаранный им почтовый листок; я подписал его, не читая. Левашев пригласил меня выйти. Я вышел в ту залу, в которой висела картина Сальватора Розы «Блудный сын». При допросе Левашева мне было довольно легко, и я во все время допроса любовался «Святою фамилией» Доминикина; но когда я вышел в другую комнату, где ожидал меня фельдъегерь, и когда остался с ним вдвоем, то угрозы пытки в первый раз смутили меня. Минут через десять дверь отворилась, и Левашев сделал мне знак войти в залу, в которой был допрос. Возле ломберного стола стоял новый император. Он сказал мне, чтобы я подошел ближе, и начал таким образом;
— Вы нарушили вашу присягу?
— Виноват, государь.
— Что вас ожидает на том свете? Проклятие. Мнение людей вы можете презирать, но что ожидает вас на том свете, должно вас ужаснуть. Впрочем, я не хочу вас окончательно губить; я пришлю к вам священника. Что же вы мне ничего не отвечаете?