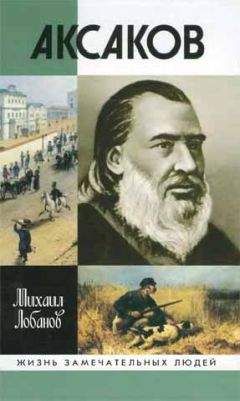Несмотря на страшный характер моей болезни, ни ученье мое, ни деревенские удовольствия не прекращались во все время ее продолжения; только и тем и другим, когда припадки ожесточались, я занимался умереннее и мать следила за мной с большим вниманием и не отпускала от себя надолго и далеко. Каждый день поутру, покуда не так было жарко, отправлялся я с Евсеичем удить. Самое лучшее уженье находилось у нас в саду, почти под окнами, потому что пониже Аксакова, в мордовской деревне Кивацкое, была мельница и огромный пруд, так что подпруда воды доходила почти до сада; тут Бугуруслан мог назваться верховьем Кивацкого пруда, а всем охотникам известно, что для уженья рыбы это очень выгодно. Впервые познакомился я тогда с высшим наслаждением рыбака, с уженьем крупной рыбы: до тех пор я лавливал только плотву, окуней и пескарей; конечно, две первые породы достигают также значительной величины, но мне как-то очень крупная не попадалась, а если и попадалась, то я не мог ее вытащить, потому что удил на тонкие лесы и маленькие крючки. Евсеич свил мне две лесы, волос в двадцать каждую, навязал толстые крючки, привязал лесы к крепким удилищам и, взяв еще свою удочку, повел меня в сад на свое секретное место, которое он называл «золотым местечком». Насадив на крючок кусок умятого черного хлеба величиною с большой русский орех, он закинул мою удочку на дно под самый куст, а свою пустил у берега возле травки и камыша. Я сидел смирно и не смел смигнуть с моего наплавка, который тихо похаживал взад и вперед оттого, что тут вода завертывала под берег. В непродолжительном времени Евсеич вдруг вскочил и, закричав: «Вот он, батюшка!» — начал возиться с большой рыбой, обеими руками держа удилище. Евсеич не имел понятия об уменье удить и потащил изо всей силы, как говорится, через плечо на вынос; рыба, вероятно, запуталась за траву или за камыш, удилище было просто палка, и леса порвалась: так мы и не видали, какая это была рыба. Евсеич пришел в большой азарт; я также почти дрожал, глядя на него. Евсеич клялся и уверял, что это была такая большая рыбища какой он сроду не уживал; но, вероятно, обыкновенный язь или головль запутался за траву и оттого показался ему так тяжел. Развив другую мою удочку, дядька мой закинул ее поскорее на то же самое место, где взяла у него рыба, и, сказав: «Видно, я маленько погорячился, теперь стану тащить потише», — сел на траву дожидаться новой добычи, но напрасно. Тогда пришла моя очередь, и судьба захотела меня потешить: наплавок мой стал понемногу привставать и опять ложиться, потом встал окончательно и исчез под водою; я подсек, и огромная рыба начала тяжело ходить, как будто упираясь в воде. Евсеич поспешил мне на помощь и ухватился за мое удилище; но я, помня его недавние слова, беспрестанно повторял, чтоб он тащил потише; наконец, благодаря новой крепкой лесе и не очень гнуткому удилищу, которого я не выпускал из рук,[11] выволокли мы на берег кое-как общими силами самого крупного язя, на которого Евсеич упал всем телом, восклицая: «Вот он, соколик! теперь не уйдет!» Я дрожал от радости, как в лихорадке, что, впрочем, и потом случалось со мной, когда я выуживал большую рыбу; долго я не мог успокоиться, беспрестанно бегал посмотреть на язя, который лежал в траве на берегу, в безопасном месте. Удочку закинули опять, но рыба больше не брала. Через полчаса мы пошли домой, потому что я был отпущен на короткое время. Это первое удачное начало сделало меня окончательно горячим рыбаком. Язя надели на прутик, и я принес его к отцу, который и сам иногда любил удить. Тогда еще не было у нас обыкновения взвешивать крупную рыбу, но мне кажется, что я и после никогда не выуживал язя такой величины и что в нем было по крайней мере семь фунтов.
Отец брал меня иногда на охоту с ружьем, на которую, впрочем, он езжал очень редко. Я сильно ей сочувствовал, и такие поездки были для меня праздниками, хотя участие мое в охоте ограничивалось тогда исправлением должности легавой собаки, то есть я бегал за убитой птицей и подавал ее отцу. Ружья мне и в руки не давали. Года через три, однако, во время летней вакации, о чем я расскажу в своем месте, первый ружейный выстрел решил мою судьбу: все другие охоты, даже удочка, потеряли в глазах моих свою прелесть, и я сделался страстным ружейным охотником на всю жизнь.
Когда болезнь моя прошла совсем, август месяц был уже в исходе; язи и головли давно перестали брать; но я успел выудить их несколько штук замечательной величины и, разумеется, упустил вдвое более. Зато уженье плотвы и особенно окуней находилось еще в сильном разгаре. Впрочем, я тогда очень развлекался ястребами; прошлогодними еще в июле начали травить перепелок; молодых гнездарей также давно уже выносили, и травля шла очень удачно. Старые ястреба были у Никанора Танайченка и у Ивана Мазана, а молодые — у Федора и у моего дядьки Евсеича. У меня также был свой собственный маленький ястреб, чеглик, выношенный очень хорошо, которым я травил воробьев и разных птичек. Я нередко езжал в поле на длинных дрогах, с кем-нибудь из названных мною охотников, всего чаще с Евсеичем, и очень любил смотреть, как травили жирных осенних перепелок и дергунов. Так прошло лето и начало осени, полные разных деревенских удовольствий, в число которых также можно поставить поездки за ягодами, а потом за грибами.[12]
Мать моя не любила деревенских прогулок. Нам редко удавалось уговорить ее поехать со мной и отцом в поле или лес. Помню, однако, что чудесная полевая клубника, родившаяся тогда в великом изобилии, выманивала иногда мою мать на залежи ближнего поля, потому что она очень любила эту ягоду и считала ее целебною для своего здоровья. Езжали также изредка на живописные горные родники пить чай со всей семьей под тенистыми березами; но брать грибы казалось матери моей нестерпимо скучным; отец же мой и тетка, напротив, весьма любили ездить по грибки, и я разделял их любовь. Всего было больнее то, что моя мать не любила также нашего милого Аксакова. Она находила местоположение его низменным и сырым, что отчасти было справедливо, запах от пруда и плотины отвратительным, ключевые воды известковыми и жесткими, и все вместе положительно вредным для ее здоровья; много было правды в этом, но много предубеждения и преувеличения. Надобно вспомнить, что мать моя родилась и выросла в городе, и всякая деревня казалась бы ей скучною. С огорчением слушали мы с отцом ее частые, красноречивые нападения на Аксаково, и хотя не смели защищать его, но мысленно не соглашались. Мать моя, живя в деревне, деревенской жизни не вела. Она занималась детьми, чтением книг и деятельною перепискою с прежними знакомыми, по большей части замечательными людьми, которые, быв только временными жителями или посетителями Уфы, навсегда сохранили к моей матери чувства почтительной дружбы. Она любила также читать медицинские книги: «Домашний лечебник» Бухана был ее авторитетом. К медицинским книгам она получила привычку, находясь несколько лет при постели своего больного отца; она имела домашнюю аптеку и лечила сама больных не только своих, но и чужих, а потому больных немало съезжалось из окружных деревень; отец мой в этом добром деле был ее деятельным помощником. Домашним хозяйством она почти не занималась.