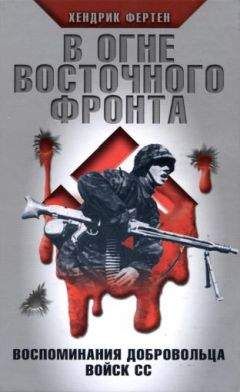В лагере имелся примитивно оборудованный пункт дезинсекции. Раз в две недели мы снимали верхнюю одежду, развешивали ее в печи и прожаривали в ней вшей. Для умывания каждому выдавали жестяной тазик, наполненный чуть теплой водой. Этого, разумеется, не хватало для того, чтобы нормально умыться. Конечно, и это приносило облегчение, но на день-два, не больше.
Во время работы в ночную смену четверо наших попытались бежать. Я своими ушами слышал, как один из них заявил: «Так и так околеем здесь, так что лучше уж пулю в спину». И верно, на вечерней поверке четверых заключенных недосчитались. Видимо, проглядела охрана, задержавшаяся в своей теплой сторожке у подъемника. Лично мне непонятно, как это им удалось смыться. Но переполох был знатный, нам грозили ужасными карами. И не только нам, но и охранники получили как полагается за халатность на посту. Помню, нас согнали в одну из штолен и, угрожая автоматами, стали допытываться, куда подевались эти четверо. Никто и понятия не имел, куда. В конце концов нас, как обычно, отконвоировали в лагерь.
Четыре дня спустя беглецов схватили, впрочем, неудивительно — куда им было бежать?
В наказание их бросили на двадцать суток в карцер — в подвал, закрывавшийся лишь продуваемой ветром решетчатой дверью. Только на третий день им выдали похлебку. Все делалось в назидание остальным, чтобы не забивали себе голову планами побега. Несколько дней спустя двое умерли от голода и холода.
Декабрь 1944 года
С 15 декабря нас перестали водить на работу в шахту. В лагере пленных по причине недопустимых гигиенических условий вспыхнула эпидемия тифа.
Мое самочувствие с каждым днем ухудшалось. Постоянные рези в животе и постоянное желание опорожнить кишечник довели меня чуть ли не до безумия.
Люди просто лежали на нарах, безучастно уставившись в пространство. В таком состоянии большинство и умирало. Бывали дни, когда умирало по шестьдесят человек. Их на запряженных лошадьми повозках отвозили в степь и там кое-как закидывали комьями мерзлой земли. У остававшихся в живых не хватало сил даже вынести их из барака. Меня направили на рытье ям, в которые укладывали по 10–15 трупов. Их так и хоронили безымянными.
Боли в желудке становились нестерпимыми, у меня начался жар.
Наступило Рождество и мой день рождения — мне исполнилось 20 лет. Я лежал на нарах, балансируя между жизнью и смертью. Казалось, время замерло. И меня тиф не пощадил, я ослаб настолько, что не мог подняться с нар. Я лежал и думал: «Вот, тебе стукнуло двадцать, в бою тебя не брали ни пули, ни осколки, и все для того, чтобы ты подыхал здесь за тысячи километров от родных мест в безвестности». Прожил я всего ничего, тем не менее, смерть уже поджидала меня. Я часами в жару лежал пластом на нарах, дожидаясь конца. Но, привыкнув к смерти как к ежедневному и ежечасному явлению, поневоле воспринимаешь собственную участь не столь обостренно.
Но я к своему удивлению очнулся, второй раз за свой день рождения. Во мне продолжала теплиться жизнь. Видимо смерть пожелала предоставить мне тайм-аут. Собрав всю свою волю и остатки сил, я все же поднялся на ноги. Ноги подкашивались. И все-таки я добрел до пустого помещения. Там я кое-как привел себя в порядок, чтобы, по крайней мере, не выглядеть трупом, который забыли похоронить. Едва меня заметили, как тут же отправили в лагерный изолятор. Сначала я отказывался — всем и каждому было понятно, что здешний изолятор — конечная остановка.
Но меня все же заставили пойти туда, и я подумал: «Какая, к черту, разница, где отдать концы». Двое моих товарищей, у которых еще оставались силы, помогли мне добраться до покойницкой.
Изолятор представлял собой неописуемое зрелище. На нарах неподвижно лежали стонущие, что-то лопочущие в горячечном бреду подобия людей. В углу стояла деревянная бочка, куда справляли нужду те, у кого хватало сил добраться до нее. Все помещение было загажено хуже распоследнего сортира. И никому до этого дела не было. Смрад стоял невыносимый. Ежедневно кого-нибудь убирали с нар и выносили прочь. Иногда кто-нибудь из заболевших объявлял: «Все, завтра моя очередь». А женщина-врач ему в ответ: «Ну и хорошо. Чем больше вас умирает, тем лучше — больше медикаментов останется, а то у нас своих выхаживать нечем, а тут еще и вы на нашу голову». Кое-кто, бормоча, расхаживал по помещению, эти люди были явно не в себе, они искали своих жен. Один утопился в ванне. Когда я сейчас описываю это, мне не верится, что это действительно происходило со мной. А, между тем так было.
Больным полагалась миска рисового супа. Мне показалось, что этот суп и поставил меня на ноги. Сначала я выдержал один день, потом еще один. На моих глазах скончались несколько моих товарищей. Может, я окреп от тех краюх хлеба и глотков молока, которыми потчевали меня в шахте русские? Однажды в коридоре я увидел Хааса. Наш бывший надсмотрщик сидел на горшке, кожа да кости, он был явно на последней стадии дистрофии. И тут у меня перед глазами со всей отчетливостью предстали сцены его издевательств над своими же товарищами. Не выдержав, я бросил ему: «Вот и до тебя очередь дошла, надеюсь, не выползешь отсюда». Справедливость восторжествовала — Хаас так и не покинул стен изолятора.
Январь 1945 года
Еще пару месяцев назад в этом лагере при шахте насчитывалось до 2 ООО пленных. Теперь, в начале 1945 года нас осталось всего 300 человек, да и те полумертвые.
Однажды врачиха объявила: «Транспортабельные будут переведены в больницу». К этому нужно было подготовиться. В бараке появилась ванна, в котле вскипятили воду. Сначала нас наголо обрили, причем не только голову, но и все тело, чтобы избавиться от вшей. После этого нам разрешили отмыть в ванне себя самих. В одной и той же воде мылись человек по семь, а она, между тем, уже после помывки одного превращалась в кисель. Мне и самому верится в это с трудом, но мы несколько дней, в чем мать родила, дожидались отправки в больницу, укрываясь на ночь какими-то тонкими тряпицами.
Больница в Краснодоне
10 января в лагерь прибыл крытый брезентом грузовик. Русский офицер зачитал фамилии тех, кто поедет. Я тоже оказался в этом списке. Нам выдали штаны и рубаху из тонкой материи, но нижнего белья не предусматривалось. Босиком по снегу мы, помогая друг другу передвигаться, поковыляли к грузовику Едва мы тронулись с места, я прошептал про себя: «Куда угодно, только подальше от проклятой живодерни». Ехать пришлось километров сто, нас трясло немилосердно, причем не только на ухабах, но и от холода. В конце концов мы прибыли в Краснодон. Здесь располагался госпиталь для военнопленных. Я увидел знакомые ряды колючей проволоки. У входа нас дожидались майор и женщина-врач. Качая головами, они с изумлением оглядывали нашу одежду — мол, в такой мороз в одних рубахах!