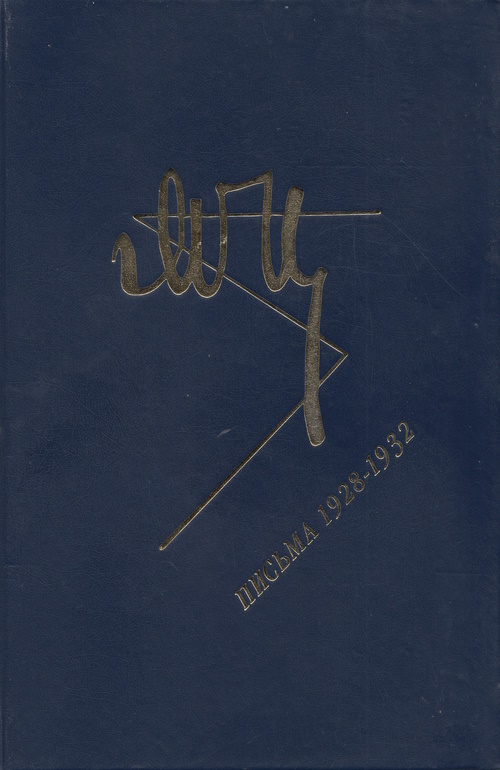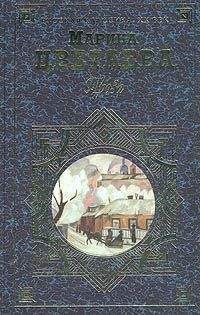— a Gilet при чем? кажется — плаж! — [216]
12-го июля 1928 г.
Мой родной мальчик! Я в полном отчаянии от всего, что нужно сказать Вам: скажу одно — не скажу всего — значит, не скажу ничего — значит, хуже: раздроблю все. Все, уменьшенное на одно, размененное на «одно» («два»). Ведь только так и надо понимать стих Тютчева: когда молчу — говорю всё [217], когда говорю — говорю одно, значит не только не всё, но не то (раз одно!) И все-таки говорю, потому что еще жива, живу. Когда умрем, заговорим МОЛЧА.
Родной мой! Мы за последние те дни так сроднились, не знаю как. Заметили, кстати, на вокзале воздух отъединения, которым нас — м<ожет> б<ыть> сами не думая — окружали все? Другие просто отступали, Вы все время оказывались рядом со мной, Вам молча уступали место, чтя в Вас — любимого? любящего? Просто ТО <<подчеркнуто дважды>, оно, божество, вечный средний род любви (кстати, как ночь, мощь — не мужское (ъ) не женское (а) — мягкий знак, умягченное мужское, утвер(ж)денное женское).
Что думал Владик? [218] Ручаюсь — ничего. Если бы подумал — осудил. Он, как животное (хвала в моих устах!) просто повиновался силе. А Вы ведь были самый веселый из всех, еще веселей Али, куда веселей меня!
Веселье — от силы, дружочек, всегда! особенно — когда через силу. Это — это — это! <<подчеркнуто дважды> — я так люблю в Вас! Ваше сердце как скаковой конь, для таких пробегов, пустынь, испытаний создано. Не конь скачек, конь пустынь.
О другом. Не люблю моря. Сознаю всю огромность явления и не люблю. В который раз не люблю [219]. (Как любовь, за которую — душу отдам! И отдаю.) Не мое. А море здесь навязано от-всюду, не хочешь, а идешь, не хочешь, а входишь (как любовь!), не хочешь, а лежишь, а оно на тебе, — и ничего хорошего не выходит. Опустошение.
Но есть для нас здесь — непростые рощи и простые поля. Есть для Вас, дружочек, долмэны и гроты.
Если то, что Вы и я хотим, сбудется (не раньше 10-го сент<ября>!) Вы будете жить в Vaux-sur-Mer, в 1½ кил<ометрах> от моря и от меня, в полях, — хорошо? И лес есть. Там в сентябре будут дешевые комнаты. Там Вы будете просыпаться и засыпать, все остальное — у нас. Поэтому шесто́вские 100 фр<анков> не шлите [220], берегите про запас, понадобятся на совместные поездки, здесь чудесные окрестности, все доступно, — игрушечный паровичок, весь сквозной, развозящий по всем раям.
_____
Вчера вечер прошел в семье Лосских [221] (философ) — большая русская помещичья семья с 100 лет<ней> бабушкой — доброй, но Пиковой-дамой, чудаком-папашей (филос<оф>) («un monsieur un peu petit» [222]), a про Сережу (местные) «un monsieur un peu grand» [223]), мамашей в роспускной кофте, и целым выводком молодежи: сыновей, их невест, их жен, друзей сыновей, жен и невест друзей — и чьим-то общим грудным ребенком.
Умные сыновья у Лосского, умней отца, — загорелые, с грубыми голосами и добрыми лицами. Цветет велосипед. Вчера, сидя со всеми ними над обрывом, под звездами, ноги в море, я с любопытством думала — заменили ли бы они все Вам — одну меня. Все они — куда образованнее меня! И все — велосипедисты (кроме 100 летней и месячного). Я, напр<имер>, вчера искренно удивилась, когда узнала, что Константинополь в… Европе! — мало удивилась: разъярилась. — «Город в к<отор>ом есть ЕВРОПЕЙСКИЙ квартал!! Да это же вздор!!!» — «Если К<онстанти>нополь в Азии, тогда и Петербург в Азии» — мрачно прогудел один из Лосских. — «Петербург? На том свете» — установила я. ВСЕ ЗАМОЛЧАЛИ. (Все-таки — «поэтесса!») Потом дружно заговорили о тендерах, тормозах и педалях. Тогда замолчала — я.
Ненавижу «компании», всегда страдала дико, убегала, опережала. Так и вчера. (Все небо поделенное на разновидности звезд — и глаз, на них смотрящих — и гул, их называющих. Что же остается — мне?)
А В<олкон>ский опять без письма! (Так мало бываю одна, что тороплюсь, глотаю слова и мысли! М<ожет> б<ыть> и буквы, — простите и прочтите quand même! [224])
Ваше письмо про кошку [225] получила за завтраком, читала — на авось — вслух, молодёц! всем было интересно, мне — нежно, всю кошку отнесла к себе, перевела на себя. Чувствовала себя — и ею в Ваших руках, и Вашей рукою. Целую Вас за это первое письмо в головочку, до того родную.
— Ничего не написала.
А ты пиши — как часто хочешь, о чем хочешь, все прочту сквозь (как тебя, себя — сквозь кошкину шерсть и блохи). Не удивляйся, если следующее письмо будет другое, сегодня пишу одна в доме. Знай все навсегда.
Обнимаю тебя.
М.
Пиши про свою жизнь (жизнь дня, дней) подробно.
<На полях:>
Читаешь ли мои книги? Au grand large [226], Цвейга? [227]
— Выспались наконец? —
Впервые — Несколько ударов сердца. С. 21–23. Печ. по тексту первой публикации.
Pontaillac, près Royan
Charente Inférieure
Villa Jacqueline
13-го июля 1928 г.
Ко́люшка, вот наш плаж [228], мой нелюбимый, к<оторо>му подвергаюсь ежедневно от 2 ч<асов> до 5 ч<асов>. Вчера ходила (в первый раз одна) в ту нашу рощицу — полдень — мой час — ни души, сидела на скале и читала немец<кую> (греч<еческую>) мифологию, посмертный подарок Рильке [229]. Из нее узнала, что жертвенный камень в Дельфах —