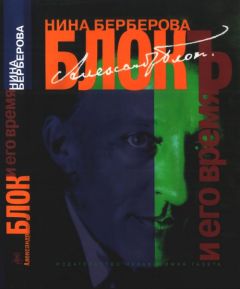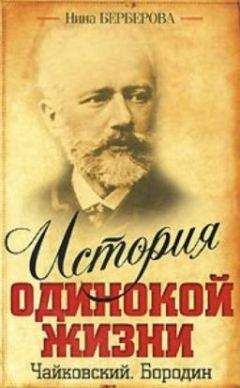Тот же Гоголь представлял себе Россию летящей тройкой. «Русь, куда же несешься ты? Дай ответ». Но ответа нет, только «чудным звоном заливается колокольчик».
Тот гул, который возрастает так быстро, что с каждым годом мы слышим его ясней и ясней, и есть «чудный звон» колокольчика тройки. Что, если тройка, вокруг которой «гремит и становится ветром разорванный воздух, — летит прямо на нас? Бросаясь к народу, мы бросаемся прямо под ноги бешеной тройке, на верную гибель.
Отчего нас посещает все чаще два чувства: самозабвение восторга и самозабвение тоски, отчаянья, безразличия? Скоро иным чувствам не будет места. Не оттого ли, что вокруг уже господствует тьма? Каждый в этой тьме уже не чувствует другого, чувствует только себя одного. Можно уже представить себе, как бывает в страшных снах и кошмарах, что тьма происходит оттого, что над нами нависла косматая грудь коренника и готовы опуститься тяжелые копыта».
«Словом, как будто современные люди нашли около себя бомбу; всякий ведет себя так, как велит ему его темперамент; одни вскрывают обойму, пытаясь разрядить снаряд; другие только смотрят, выпучив от страха глаза, и думают, завертится она или не завертится, разорвется или не разорвется; третьи притворяются, что ровно ничего не произошло, что круглая штука, лежащая на столике, вовсе не бомба, а так себе — большой апельсин, а все совершающееся — только чья-то милая шутка; четвертые, наконец, спасаются бегством, все время стараясь устроиться так, чтобы их не упрекнули в нарушении приличий или не уличили в трусости».
* * *
«И потому, хотим мы или не хотим, помним или забываем, — во всех нас заложено чувство болезни, тревоги, катастрофы, разрыва. Это чувство разрыва никто не станет отрицать в целом, но чуть только попытаешься перевести его на конкретное, — немедленно найдутся ярые отрицатели болезни и защитники своей цельности. <…> Если заговоришь о том, что неблагополучно ни в одной семье, сейчас же найдется семьянин, который скажет, что он живет 25 лет в мире и согласии с женой и детьми. Если скажешь, что наука бессильна перед провалом южной Италии, сейчас же поднимется геолог и заявит… что наука если еще и не совсем победила природу, то через 3000 лет победит»[26].
* * *
«Самые живые, самые чуткие дети нашего века поражены болезнью, незнакомой телесным и духовным врачам. Эта болезнь — сродни душевным недугам и может быть названа „иронией“. Ее проявление — приступы изнурительного смеха, который начинается с дьявольски-издевательской, провокаторской улыбки, кончается — буйством и кощунством. <…> С теми, кто болен иронией, любят посмеяться. Но им не верят, или перестают верить.<…> Не слушайте нашего смеха, слушайте ту боль, которая за ним. Не верьте никому из нас, верьте тому, что за нами»[27].
* * *
«Не все можно предугадать и предусмотреть. Кровь и огонь могут заговорить, когда их никто не ждет. Есть Россия, которая, вырвавшись из одной революции, жадно смотрит в глаза другой, может быть более страшной»[28].
Вот о чем размышлял Блок в годы, последовавшие за первой русской революцией. И московским, и петербургским символистам одно казалось несомненным: Блок уже не был Певцом Прекрасной Дамы; он стал человеком современной России; с больной совестью, полный неутолимой тоски, он трезво смотрел в будущее. Он перерос свою школу, перерос учителей: он не страшился слов, не стыдился слез.
Все три части первой книги стихов Блока проникнуты глубоким внутренним единством. Но со второй книгой, созданной между 1904 и 1908 годами, дело обстоит иначе. Она включает цикл «Пузыри земли», так неприятно поразивший Белого; «Город», навеянный прогулками по злачным местам петербургских пригородов; цикл «Вольные мысли», написанный белым десятисложным стихом; множество стихов, посвященных Волоховой («Снежная маска», «Фаина»), и, наконец, «Разные стихотворения». В них сильнее всего отразился путь, пройденный Блоком за эти годы.
Мир никогда не представлялся Блоку совершенно непроницаемым: сквозь него он всегда прозревал многое другое, более великое, глубокое, значимое и существенное. После революции и пережитого им внутреннего кризиса, в начале первого года возмездия (1908), мысли Блока приобрели новую направленность. Он вдруг осознал, насколько хрупко все, что его окружает. Сквозь каменные стены стал проглядывать остов, под теплой живой плотью угадывался скелет. Все внешнее скоро рухнет, кончится привычная жизнь, может быть, вся страна погибнет! Его терзает эта засевшая в нем мысль. Он пытается бороться с предчувствием. Но сказал же Достоевский, что однажды Петербург «исчезнет как дым». А что, если исчезнет и вся Россия? Что, если солнце и ветер развеют этот туман, и на тысячи верст вокруг останутся лишь безмолвие, болота, леса, да бескрайние дикие степи? Вся Русь сгинет вместе со своей предумышленной столицей. Хотя столица эта прекрасна, прочно закована в гранит. Но ведь и Рим был надежно защищен? Подобно тому, как на развалинах Римской империи возникла Италия, что-нибудь появится на месте России. Возможно, это что-то будет прекрасно и некоторым туристам полюбится даже больше, чем древние памятники. Но прежней России не останется. Погиб Рим, и вслед за ним погибнет Русь.
Ты видишь ли теперь из гроба,
Что Русь, как Рим, пьяна тобой? —
так писал Блок в стихотворении, посвященном Клеопатре.
А вместе с Петербургом исчезнет и целая эпоха, великая эпоха в русской поэзии, начало которой положил Пушкин. Так в один день сгинут оба дара Петра Великого.
В «Ночной фиалке» Блок впервые заговорил о прозрачной оболочке города. Время остановилось, все застыло, погрузилось в сон. По берегам Невы тысячелетние герои в глубоком оцепенении мечтают, созерцая море. Быть может, спустя две тысячи лет они также будут смотреть прямо перед собой, и лишенная возраста дочь владыки, потомка викингов, по-прежнему будет прясть день за днем, век за веком. Здесь впервые Блок выразил, как хрупка жизнь, как непрочны декорации, до сих пор казавшиеся незыблемыми. И нами овладевает предчувствие, что, если все это однажды исчезнет, закончится и славный этап русской литературы, последним представителем которого был Блок.
Все обречено на гибель. Не приходится сомневаться, что Блок — в своих стихах, статьях, дневниках, письмах — глашатай тревоги. Но ему не желают верить, его не хотят услышать. Одни углубились в теоретические рассуждения о символизме, другие увлеклись политикой, погрязли в запутанных религиозных диспутах. Двадцатилетние, хлопая дверями, врываются в литературу с твердым намерением развенчать идеи Белого и Вячеслава Иванова. Ремизов и Сологуб — возможно, единственные, кто его понимает, но оба они слишком поглощены собственными размышлениями и творчеством.