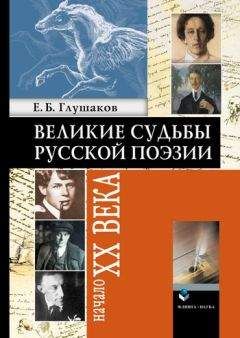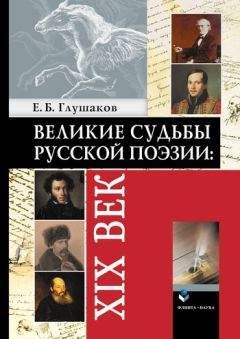Голодное существование Блоков привело к распродаже артистического гардероба Любови Дмитриевны, а затем и её коллекции кружев. Тем же путём и Александр Александрович лишился своей библиотеки. Впрочем, всё шло за бесценок и к сытости не приводило.
Некоторые из поклонников Блока пытались ему как-то помочь. Но голод уже становился повсеместным и всеобщим, а возможности сочувствующих – всё скудней и скудней. Одной из наиболее известных почитательниц поэта была Н.А. Ноле-Коган. Ещё в марте 1913 года Надежда Александровна написала письмо, в котором спросила, не разрешит ли Александр Александрович присылать ему иногда красные розы?.. «Да, если хотите. Благодарю Вас», – ответил Блок.
В ноябре 1914-го они впервые встретились, а в 1917-м Надежда Александровна с семьёй, покинув Петроград, переехала в Москву. И вот теперь, весной 1920 года, она совместно со своим мужем, видным деятелем науки и культуры Петром Андреевичем Коганом, пригласила поэта в древнейшую российскую столицу и устроила ему выступления: в Политехническом – 9, 12, и 16 мая; и во Дворце искусств – 14 мая. Битком набитые аудитории, а толпы мечтающих о билете столь огромны, что и к входу не протиснуться.
На двух из этих четырёх концертов Блока побывала Марина Цветаева, прежде не видевшая его ни разу. А значит, имелась у неё возможность познакомиться с поэтом. И прекрасным поводом послужили бы «Стихи к Блоку», написанные Цветаевой за четыре года до этого и лежавшие теперь у неё в кармане. Гордость ли не позволила или наоборот «священный трепет»? Не подошла, не обратилась. А стихи передала через свою восьмилетнюю дочь Ариадну. Было в них и пророческое:
Думали – человек!
И умереть заставили…
Цветаевские стихи, посвящённые ему, Блок тут же пробежал глазами, причём, с улыбкой, которая в эту пору посещала его очень и очень редко…
Успех Московских выступлений поэта был огромен. Такого публичного триумфа русская поэзия, пожалуй, ещё не знала. Не знала она и столь мизерных гонораров, как тот, что получил за них непритязательный Александр Александрович.
В октябре того же года ему предложили опять приехать в Москву для выступлений. Отказался, сославшись на то, что «слишком рано», а также на неважное самочувствие и обветшалый гардероб: «Нельзя читать, имея вид ветерана наполеоновской армии – уже никто не влюбится, а те-то, которые, было, весной влюбились, навсегда отвернутся от такого человека…»
В эту пору на Блока навалилась новая толика забот. Он оказался одним из организаторов и первым председателем Союза поэтов в Петрограде. Хотя поначалу и сомневался в целесообразности, даже в самой возможности такого Союза, поскольку поэты «такие разные и друг на друга непохожие в самом существенном, в понимании и видении жизни».
Однако, теперь, дав себя уговорить, Александр Александрович пунктуально и терпеливо выполнял свои, по большей части хозяйственные, обязанности: для кого-то хлопотал о пайках, кого-то обеспечивал дровами, кого-то одеждой, улаживал мелкие ссоры и дрязги. Иногда поэт порывался оставить этот почётный пост, но все дружно, хором упрашивали, умоляли, заклинали продолжать работу.
Не столько труды попечительства угнетали Блока, сколько расхождение с этим самым Союзом во взглядах на поэзию и её цели. Заложник своей славы и врождённого доброжелательства, не умел он покинуть эту чуждую ему организацию, хотя и далёких по духу, но тоже не защищённых и нуждающихся в поддержке людей.
7-го октября 1920 года, когда Блок выступил за вхождение Союза поэтов во Всероссийский союз работников искусства, дабы приобрести больше реальных прав, «акмеисты» во главе с Гумилёвым взбунтовались и даже потребовали переизбрания Правления. В дискуссионной горячке Блок был забаллотирован. Но, поостыв, расшумевшиеся поэты поняли, как они принизили свой Союз, лишив его такого председательства.
И тогда члены Союза явились к Блоку домой. Толпились на лестнице, во дворе. Упросили-таки остаться. Однако согласился Александр Александрович с оговоркой, чтобы его не загружали хозяйственными вопросами. Когда в январе 1921-го новым председателем был избран Гумилёв, для Блока это освобождение от почётного ярма стало подлинным праздником.
Однако стихи по-прежнему не писались. Ещё в 1920-ом вышла его 6-я книга лирики «Седое утро», составленная из написанного давным-давно. Тогда же, выскребая последнее из неопубликованного, поэт выпустил сборник своих юношеских стихов «За гранью лет». На следующий год Блок доберётся и до своих отроческих стихов, но издать не успеет.
Только нужда, только голод заставляли его печатать и читать на выступлениях старые стихи, что поэт считал «недобросовестным делом». На вопросы, почему он не создаёт новое, отвечал: «Все звуки прекратились. Разве вы не слышите, что никаких звуков нет?» А в одном из писем выразился ещё определённее: «Новых звуков давно не слышно… Было бы кощунственно и лживо припоминать рассудком звуки в беззвучном пространстве».
Вся его пёстрая многосложная деятельность подручного на культурном фронте Революции, увы, не искупала творческого безмолвия поэта. При кажущейся значительности, была она жалкой суетой на фоне великого поэтического призвания, которому Блок в последние годы своей жизни изменил. Впрочем, так ли это? Не будет ли точнее сказать, что поэзия ему изменила? В любом случае крест своего отлучения от неё нёс он, не жалуясь, не ропща, с трагизмом, самым непритворным и мучительным.
Ослушавшись гениального Пушкина, лет за сто до этого обратившегося к толпе: «Жрецы ль у вас метлу берут?» – Блок, аналогично Маяковскому, пожелал послужить Революции. Но даже для Владимира Владимировича, вышедшего «строить и месть в сплошной лихорадке буден», при всём его демократизме и разночинной закваске, метла оказалась непосильна. Что же говорить о белой косточке, о последнем поэте из дворян – Александре Блоке? Будь то метла, или, скажем, лопата, а всегда полезно помнить Божественную премудрость – не зарывайте талант в землю! А иначе – «тьма внешняя и скрежет зубовный».
Прежде, чем перейти к рассказу о заключительном периоде жизни поэта, уместно вспомнить ещё об одной библейской истине: «Не создай себе кумира». Кумиром Александры Андреевны, матери поэта, а через неё и кумиром её сына, причём, с юношеских лет, был Аполлон Григорьев. И едва ли не более всего им обоим импонировало в этом уже покойном поэте его катастрофически трагическая судьба.
Нет, даже не импонировала, но авансом через сопоставление с собственной Александра Александровича, ещё не до конца развернувшейся, воспринималась, как нечто безусловно близкое и родное. Отношение к Аполлону Григорьеву со стороны друзей и знакомых даже служило некою мерой духовного единения с Блоками. Это поклонение и настроенность на трагедию уже сами по себе вели Александра Александровича к ужасному финалу через ряд весьма горьких и страшных мизансцен.