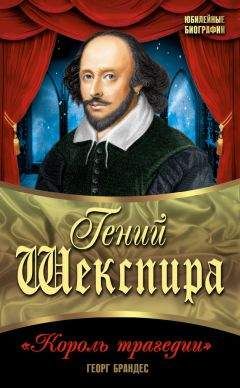Глава 5
ЛОНДОН
И вот пришло время исполнить традиционную хвалебную песнь, чтобы отметить первое появление Уилла в Лондоне. Все замечательно. Город, в который прибыл Шекспир, ничем не напоминал сегодняшний безумный мегаполис. То была разросшаяся деревня, еще не слишком устремленная в сторону запада. На Пикадилли, получившей название от Пикадилли-Холла, где жила семья, разбогатевшая на изготовлении pickardils, или круглых плоеных жестких воротников, находились пригородные усадьбы. Весь Лондон занимал приблизительно то место, где сегодня находится лондонское Сити: лабиринт перенаселенных Роговых улочек, пропахших Темзой — главной артерией города. Лондонцам чосеровского времени показалось слишком хлопотным построить через нее мост; елизаветинцы осилили только Лондонский мост. Обычно реку пересекали на лодках, выполнявших роль такси, лодочники кричали: «Эй, на восток!», «Эй, на запад!». На реке активно торговали; плавали также позолоченные барки, иногда с членами королевской семьи. У берегов, прикованные цепями, ждали, когда три прилива омоют их, преступники. Река была свидетельницей и других жестоких символов века: жутких отрубленных голов на Лондонских воротах перед зданием Темпля и на самом Лондонском мосту.
Ричард Тарлтон, первый великий комик елизаветинской эпохи, демонстрирует с помощью барабана и флейты возможность быть человеком-оркестром
Улицы были узкие, мощенные булыжником, скользкие от помоев. Дома тесно прижимались друг к другу, и было много незаметных проулков. Ночные горшки, или жорданы, выливали прямо из окон. Не было никаких очистных сооружений. Наполненные вонючей жидкостью канавы заставляли человека высоко задирать голову, но в городе обитали природные чистильщики — коршуны, изящные птицы, которые строили свои гнезда на деревьях из тряпья и всякой рвани. Они и убирали с улиц мусор, с удовольствием подбирая все. Одной из первых удивительных картин, открывшихся Уиллу, вероятно, была их стая, насевшая на недавно отсеченную голову, что была насажена на пику у здания суда. И в противовес зловонию, произведенному человеком, в город вливались ароматы сельской местности. Ранним утром на улицах появлялись розовощекие молочницы и продавцы только что сорванной зелени.
Это был очень шумный город: странствующие актеры и грохочущие по булыжникам колеса повозок, крики торговцев, шумные ссоры подмастерьев, драки из-за нежелания уступить дорогу и угрозы сбросить противника в грязную канаву. Даже обычный разговор приходилось вести громко, поскольку все жители Лондона пребывали по обыкновению навеселе. Воду попросту никто не пил, а чай еще не вошел в обиход. Эль был обычным напитком, и он был крепок. Эль за завтраком способствовал доброму началу дня или же, наоборот, грубой выходке. Эль за обедом помогал снова сосредоточиться на том, что не успелось сделаться утром. Эль за ужином являлся причиной тяжелого храпа ночью, когда наступала передышка между завтраком-обедом-ужином. Люди побогаче пили вино, которое способствовало установлению духа доброго товарищества и приводило к дракам на шпагах. Одним словом, этот город никак нельзя было назвать городом трезвенников.
Люди на улицах охотно распевали песни, постоянно находясь в некой эйфории, и репертуар был обширен. Тогда еще не существовало разницы между развлекательной музыкой и музыкой, способствовавшей духовному подъему, что является тревожной чертой нашего времени, и такие видные музыканты, как Берд, и Уилкс, и Уилби, и сатурнический гений по имени Джон Буль, были готовы сочинять фантазии на тему «Свисток возчика» или «Джон сейчас придет меня поцеловать». Что же касается образованных слоев общества, то не вызывает сомнения, что возможность принимать участие в мадригале была одной из неприметных черт леди или джентльмена. Играть по нотам с листа (эта способность британских музыкантов даже сегодня поражает европейских дирижеров) было столь же естественным занятием, как сочинять, и некоторые из тех мадригалов, которые пели елизаветинцы, нам нелегко читать с листа. Было множество искусных игроков на лютне (или на гитаре). Клавиатурным инструментом в те дни был вёрджинел (разновидность клавесина) — возможно, он получил такое название потому, что считался самым подходящим инструментом для юных дев. Это название окончательно упрочилось за ним, когда стало известно, что сама королева-девственница отличается в игре на нем или на них. (Елизаветинский термин употреблялся во множественном числе — два вёрджинела.) Среди более громких инструментов были корнет (цилиндры из слоновой кости или дерева, звучащие, как труба, полые внутри, как рекордеры) и свирели (цитра) — прообраз современного тромбона. Елизаветинцы были просто без ума от мелодичных и громких созвучий.
До Уилла в открытые окна музыка доносилась из парикмахерских (где мальчику полагалось петь под лютню, пока он скоблил щеки и стриг бороды) и, конечно, из таверн. В этом музыкальном Лондоне Уилл, вероятно, научился писать лирические стихи, пригодные не только для включения в пьесу, но и остающиеся в памяти после ее окончания. Он мог бы быть Лоренцем Хартом в той же степени, как Уильямом Шекспиром. Что его музыкальные познания стали значительными, видно по отдельным высказываниям его героев в пьесах. Так, леди Макбет советует своему мужу: «Лишь натяни решимость, как струну»[18], так говорят о настройке лютни. Трагедия «Ромео и Джульетта» полна технических музыкальных каламбуров. От актеров требовали значительных познаний в пении и танцах, поскольку дворяне и лорды неплохо сами разбирались в этом. Сама королева была одной из великолепных танцовщиц своего времени.
Нам трудно совместить в нашем восприятии эту любовь к искусству с известной склонностью к жестокости. Когда мы в ужасе отшатываемся от жестокости в пьесах самого Шекспира, как в его раннем «Тите Андронике», так и в позднем «Короле Лире», мы совершаем ошибку, полагая, что Уилл — один из нас и что он приобщился к жестокости того времени по каким-то непонятным причинам, случайно. Но случайно только то, что Уилл — «на все времена», он в высшей степени один из нас: задолго до Фрейда он понял, как получать удовольствие от всего, что ускоряет ток крови в жилах и разжигает желание. А жестокость, неприемлемую для нас, можно было примирить с эстетическим инстинктом. Так, например, палачу, который совершал ритуал на историческом месте казни, в Тайберне, полагалось быть не простым мясником. Для того чтобы вырезать сердце повешенному и успеть показать его своей жертве до того, как ее глаза закроются навеки, требовалось незаурядное искусство. И четвертование еще не остывшего тела полагалось совершать с быстрой лаконичностью истинного художника.