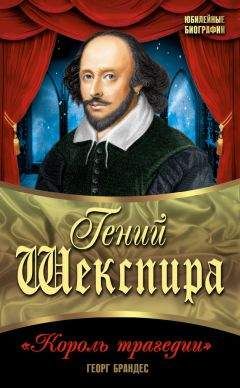Проходя по Лондону, человек буквально проходил сквозь смерть и боль: коршуны выклевывали глаза казненных, вопли шлюх, доносившиеся из исправительной тюрьмы, хлестали по нервам. В «Короле Лире» Уилл собирался выдавить своему герою глаза, но он также яростно нападал на исправительные тюрьмы для проституток, как ханжа, которого испепеляет жажда обладать раздетой плотью, хоть он и высмеивает ее. Он видел, что скрывается за садизмом его эпохи, но он не тратил чернил на реформистские памфлеты. Он принимал все. Он принимал травлю медведей собаками Сакерсона и Гарри Ханкса в Банксайде (районе театров по южному берегу Темзы), звуки которой доносились до театра, где он работал, и то, как их разрывали на куски собаки ужасного громилы. Он принимал «руки палача»: и когда Макбет смотрит на свои собственные руки, как на руки палача, он имеет в виду не манипулятора веревками; он думает о свежей крови и о кишках, запекшихся на кулаках, что погружались в живот жертвы. Уилл принимал то, что не мог изменить: он был драматургом, фиксирующим устройство жизни. И он принимал дары Господа, который, должно быть, казался таким же жестоким, как люди; достаточно вспомнить о нищих, изувеченных болезнями, о периодических эпидемиях чумы.
Но, со всеми своими ужасами, Лондон был все же очень красивым городом и казался самым желанным местом в мире. Это была настоящая столица, отнюдь не провинциальная тихая заводь Европы. Величественная река вливалась в европейские реки, и европейские реки текли вспять. Это была столица не только протестантской Англии, но протестантского христианства. Когда в 1587 году Уилл прибыл из Уорикшира, он оказался втянутым в бурное обсуждение вопроса, слухи о котором долетали до Стратфорда только изредка: будет ли существовать реформированная церковь немецкоговорящих стран? Это была религиозная тема, но в то же время и политический вопрос, так как за гибелью протестантизма должна была последовать смерть наций, которые пришли к самореализации благодаря протестантизму, с написанной на родном языке Библией и, как в Англии, не зависимым от Рима главой национальной церкви. Силы контрреформации, которые в основном сосредоточились в Испании, были очень сильны и все еще пытались показать, как далеко простирается их власть. Англия была слабой, но она объединилась под руководством блестящего вождя. В 1587 году королеве Елизавете было пятьдесят три года, и она управляла страной двадцать восемь лет. Достигнув, по стандартам того времени, уже пожилого возраста, она тем не менее была здоровой телом и сильной духом. Что нельзя было бы сказать о ее великих советниках, которые помогали ей управлять страной в предыдущие годы: Сесил и Уолсингем стали уже дряхлыми стариками, Лестер растолстел и превратился в раба своих желаний. Елизавета же все еще оставалась самым умным и изворотливым монархом в Европе, и Европа знала это.
Давно вышедшая из того возраста, когда заводят детей, она больше не эксплуатировала когда-то столь заманчивое девичество в сложной игре династических союзов. (Бен Джонсон, разговаривая с Драммондом из Хоторндена, сомневался, способна ли была королева когда-нибудь на самом деле вступить в брак: «У нее была перепонка, которая мешала ей иметь отношения с мужчинами».) Наследование престола долгое время оставалось проблемой, волнующей как протестантскую Европу, так и протестантскую Англию. Но в 1587 году, впервые за долгие годы, затеплилась надежда. Если бы Уилл прибыл в Лондон в феврале (придерживаясь нашего произвольного допущения), а не летом того года, его ошеломил бы звон колоколов, огонь фейерверков, пальба из ружей, пьяный шум радости. 8 февраля была казнена королева Мария Шотландская, до последнего мгновения твердо придерживавшаяся своей католической веры; вместе с ней исчезла страшная угроза протестантской короне. Возникло недовольство в Шотландии, которая когда-то, вслед за Джоном Ноксом, назвала «нашу Иезавель блудницей», но сын Марии, Джеймс VI, думал о собственном будущем. «Какое безрассудство и непостоянство я проявил бы, если бы предпочел мою мать титулу, пусть судят все люди. Когда-то моя религия подвигла меня ненавидеть ее устремление, хотя моя честь заставляет меня настаивать на сохранении ей жизни» — таковы были его несыновьи слова, сказанные всего год назад. Но те, кто боялись, что из Шотландии прибудет католик, который взойдет на английский трон, больше не должны были испытывать страха. Английские католики утратили последнюю надежду. Когда некоторые из них устремляли взоры к дочери Филиппа Испанского, видя в ней новую претендентку на английский престол, обнаруживалось, что многие их соратники по религии становятся в первую очередь англичанами, и только затем — католиками. Испания, хоть она и была опорой Папского престола, являлась сильным иностранным государством, угрожавшим английской земле.
Угроза нападения Испании возрастала, а Уилл тем временем обустраивался в своем первом лондонском жилище. Паники в стране не возникло, но на всякий случай были предприняты довольно суровые меры предосторожности, что означало заключение в тюрьму католических мирян, пытки, повешение, кровопускание и четвертование сладкоголосых иезуитов. Изгнанные католики-англичане немало вредили своим оставшимся дома братьям, яростно нападая из Рима или Дуэ на королеву, которую называли не только ересиархом (основателем еретического учения), но виновной в кровосмешении, незаконнорожденной и сластолюбивой, преданной «невыразимому и невероятному разнообразию похоти». Елизавета, со своей стороны, возможно, была еретичкой, но она не склонна была поносить слепой фанатизм. Ее больше устроила бы английская церковь, организованная в соответствии с положениями «Церковного государственного устройства» Хукера, где нашлось бы место для всех направлений христианской веры. Нетерпимость, которая омрачала жизнь католиков, свободомыслящих и актеров, распространялась не короной. Возник новый тип фанатиков, и их насчитывалось великое множество среди отцов Сити и в самом Тайном совете. Спокойные, патриотично настроенные католики более естественно вписывались в структуру елизаветинского христианства, чем новые воинствующие протестанты, громко заявлявшие о своем недовольстве. Но все было не так просто, как казалось людям не столь проницательным, как королева. Католицизм подразумевал Испанию, а Испания была врагом.
Легкий комизм гравюры на дереве маскирует жестокость сцены повешения, за которым следовало четвертование, высшее мастерство палаческого искусства. Головы отрубали топором мастерски, что вызывало восхищение многочисленных зрителей