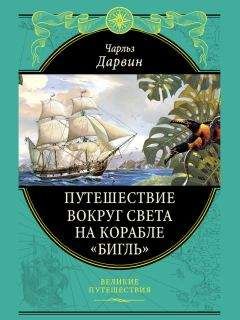Впрочем, она не сразу ответила на письмо. Прежде она пошла к отцу и со спокойствием, обретенным ею вместе с религиозной экзальтацией, негромко сказала ему, что Господь указал ей путь и что она решила выйти замуж за молодого человека, собравшегося стать миссионером, и отправиться с ним в дальние страны.
Германус был человеком седоволосым, холерического темперамента, прямолинейным и воинственным, как маленький генерал. Он схватил свою трость и двинулся к двери. Было это около трех часов пополудни, в то самое время, когда появлялся молодой миссионер. И сегодня он как раз шел к ним, как всегда, немного понурившись, медленным, не совсем уверенным шагом. Маленький разъяренный человечек выскочил перед ним и начал размахивать тростью у его лица. Молодой человек в удивлении отшатнулся.
— Сэр, я знаю, что у вас на уме! — заорал Германус таким голосом, какого никак нельзя было ожидать при его росте. — Но вам моей дочери не видать!
Молодой миссионер был, хотя и не очень щедро, наделен некоторым чувством юмора, которое иногда обнаруживалось. Он посмотрел на маленького человечка с высоты своего роста и мирно ответил: «Нет, сэр, я думаю, я ее получу» — и двинулся дальше.
Керри ждала его у двери, и ее последние сомнения теперь как рукой сняло. Сопротивление Германуса оказалось на руку молодому человеку. Она была согласна.
Корнелиус взялся утихомирить отца; он и сам не совсем одобрял решение сестры, но понимал, что она взрослая женщина и вправе решать сама за себя. К тому же этот молодой человек пришелся ему по душе, а миссионерскую деятельность он почитал делом благородным, если браться за него по призванию и не жалея сил. Но главным было добиться для Керри родительского благословения, дабы она могла поступить по своей воле. Очень неохотно, после долгих разговоров Германус все-таки дал свое согласие.
Отныне каждый день в три часа пополудни молодой миссионер приходил в дом и по часу беседовал с Керри в гостиной, называя ее до самого дня свадьбы «мисс-Керри», а в четыре часа пил чай с ее родней, во время которого, согласно семейному обычаю, подавались вино и небольшие кексы.
Восьмого июля 1880 года они поженились, причем Керри была в сизого цвета дорожном костюме, поскольку жене миссионера не подобало наряжаться в белый атлас и флёрдоранж.
На вокзале на мгновение возникла неловкость: молодожен, оказывается, купил только один билет.
— Вы уж запомните, что у вас теперь есть жена, — с упреком заметил старший брат.
Дело было в том, что для молодого миссионера даже волнения этого дня не могли затмить радости от сознания возможности наконец-то заняться делом, избранным на всю жизнь. «Работа» называл он его, и было ясно, что это слово существует для него только с заглавной буквы. Мать настаивала, чтобы он нашел себе жену, и теперь это препятствие исчезло. Жена у него была. Правда, он не всегда об этом помнил.
* * *
Если когда-либо два несмышленыша отправлялись в путь, то это они и были. И он и она жили в небольших тихих поселках, и все их путешествия ограничивались разве что поездками в школу. Теперь же они, исполненные высоких помыслов, уверенно двинулись на другой край света, зная только, что сперва им предстоит ехать по суше, а потом по морю. У Эндрю было полторы тысячи бумажных долларов, полученных им в миссионерском совете, которые он недолго думая сложил пополам и запрятал в карман своего длиннополого двубортного сюртука. Весь путь через континент они проделали сидя, потому что не знали о существовании спальных вагонов. В Сан-Франциско они несколько дней не могли достать билеты на пароход. Когда в конце концов Эндрю отправился на берег океана и обнаружил у причала «Город Токио», скрипучее, не очень пригодное для путешествий по морю старое корыто, отплывавшее на следующий день, он нанял каюту, и они приготовились к следующему этапу своего путешествия.
Керри не понадобилось больше трех дней замужней жизни, дабы понять, что во всех практических делах ей придется взять бразды правления в свои руки. Как ни силен был Эндрю в проповеди и в молитвах, в делах земных он был беспомощен и неискушен, словно ребенок. Он безоговорочно верил в изначальную человеческую доброту и, хотя в проповедях обличал всякую подлость, не мог разглядеть злого начала ни в ком, кроме тех, кто не разделял его религиозных взглядов. Проследить за тем, чтобы их багаж и пожитки доставили на корабль, пришлось Керри, как и позаботиться обо всем, что понадобится в морском путешествии.
Легко ли понять теперь, спустя полвека, что было у нее на сердце в тот жаркий летний день, когда корабль поднимал паруса, чтобы покинуть Америку? От кого же как не от нее я знаю, что, увидев, как неотвратимо отдаляется от нее родная страна, она, объятая ужасом, убежала в каюту. В этот момент она чувствовала враждебность, хотя и немедленно подавленную, к святому, за которого вышла замуж, и даже к самому Господу за то, что даже в этот час расставания с родиной он не пожелал заговорить с ней с небес и каким-либо знамением утвердить ее в правильности принятого решения.
Морская пучина, по которой переваливающийся с боку на бок старый пароход должен был целый месяц нести их, до конца дней осталась для Керри морем ужасов. Уже через час после того, как исчезла из вида земля, Керри поняла, что море не для нее. Морская болезнь мучила ее особенно жестоко: ее не только тошнило, но и страшная боль пронзала голову и спину, делаясь день ото дня все сильней. Она выросла в горах и любила горы. В море она особой красоты не замечала, напротив, оно вызывало у нее отвращение и страх. Отчасти, я думаю, это было из-за того, что оно невольно напоминало ей о расставании с родной землей, которую она год от года любила все больше, о жестоком расставании навсегда, и океан означал для нее в последние годы невозвратимость потери родины, поскольку она тогда скорее согласилась бы умереть в чужих краях, чем решиться на новое морское путешествие. Однажды позднее, когда она, еле передвигая ноги, шла по сходням корабля, она посмотрела на нас своими блестящими, искрившимися юмором даже в этот момент глазами и произнесла: «Ох, как мне хочется попасть на небо, потому что, как я помню, в Библии сказано: «И не будет там моря».
Молодому мужу не слишком нравилось, что весь медовый месяц она была нездорова. Но иной новобрачный расстроился бы на месте Эндрю куда больше. Он ведь не слишком обращал внимание на женскую внешность, даже на внешность собственной жены. Она не могла этого не видеть, и это вызывало у нее улыбку, хотя и смешанную с горечью. Я помню, как однажды, много лет спустя, когда ее юная красота ушла в далекое прошлое, она сказала: «Эндрю никогда не замечал, как я выгляжу или что я ношу. Единственный раз за все время он произнес несколько слов о моем виде, когда я была при смерти после родов, и он был непривычно огорчен при мысли, что вдруг я умру. Сидя у моей постели, он тогда застенчиво вымолвил: «Я и не знал, Керри, что у тебя такие красивые карие глаза». А ведь к тому времени мы прожили восемнадцать лет и я только что родила седьмого ребенка! Теперь вы понимаете, каково это — быть замужем за святым». А затем с обычным для нее быстрым и прихотливым поворотом мысли добавила: «Впрочем, по мне, лучше быть замужем за святым, который не замечает, как ты хороша, чем за грешником, не пропускающим ни одного смазливого личика!»