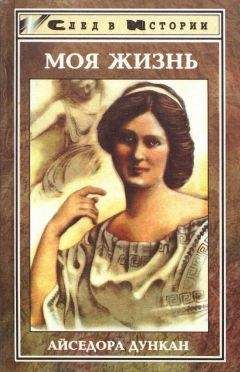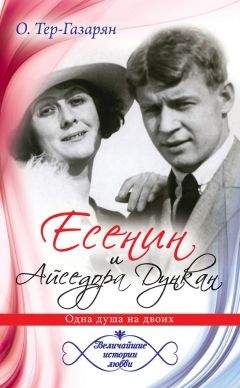Раймонд отказался от мидинетки и посвятил себя мне. Наше возбуждение от пребывания в Париже было таково, что обычно мы вставали в пять часов утра и начинали день танцами в Люксембургском саду, затем исхаживали целые мили по всему Парижу и часами проводили время в Лувре. Раймонд уже собрал целый портфель рисунков со всех греческих ваз. Мы так подолгу задерживались в зале греческих ваз, что смотритель стал относиться к нам с подозрением.
Но когда я, не зная языка, объяснила ему пантомимой, что я прихожу туда только танцевать, он решил, что имеет дело с безвредными лунатиками, и оставил нас в покое.
Кроме Лувра, мы посетили музей Клюни, музей Карнавале, Собор Парижской богоматери и все остальные музеи Парижа.
Весна перешла в лето, в Париже открылась Всемирная выставка 1900 года (Всемирная выставка в Париже в 1900 г. привлекла 48 миллионов посетителей), и, к моей великой радости, но к неудовольствию Раймонда, однажды утром в нашей студии на Рю Гайете появился Чарлз Галле. Он приехал на выставку, и я стала его постоянной спутницей. Более восхитительного и умного гида трудно было себе представить. Целый день мы бродили по павильонам, а вечером обедали на Эйфелевой башне. Я часто уставала, но чувствовала себя вполне счастливой, ибо обожала Париж и обожала Чарлза Галле.
По воскресеньям мы садились в поезд и уезжали за город, блуждали по садам Версаля либо по Сен-Жерменскому лесу. Я танцевала перед Галле в лесу, а он делал с меня наброски. Так прошло лето. Для моей матери и Раймонда оно, разумеется, не было таким счастливым.
Величайшее впечатление от выставки 1900 года оставили во мне танцы Сада-Якко, великой трагической танцовщицы Японии. Много вечеров подряд меня и Чарлза Галле заставляло трепетать чудесное искусство этой великой артистки. Другое, даже более сильное впечатление, оставшееся у меня на всю жизнь, произвел на меня «Павильон Родена», в котором полное собрание произведений замечательного скульптора было впервые показано публике. Когда я вошла в этот павильон, то застыла в благоговении перед творениями великого мастера. Не зная в то Бремя Родена, я чувствовала, что попала в новый мир.
Приближалась осень, а с нею последние дни выставки. Чарлз Галле должен был возвратиться в Лондон, но перед отъездом он познакомил меня со своим племянником Чарлзом Нуффларом.
— Я оставляю Айседору на твое попечение, — сказал он уезжая.
Нуффлар был молодым человеком около двадцати пяти лет, но уже достаточно пресыщенным. Он совершенно пленился наивностью юной американской девушки, которую доверили его попечению, и взялся пополнить мое образование в области французского искусства. Рассказывая подробно о готическом стиле, Чарлз впервые по достоинству заставил меня оценить эпохи Людовиков XIII, XIV, XV, XVI.
Мы покинули студию на Рю Гайете и на остатки былых сбережений наняли большую студию на Авеню де Виллье.
Здесь моя мать воскресила свою музыку и, как в дни нашего детства, в течение долгих часов играла Шопена, Шумана и Бетховена. В студии у нас не было ни спальни, ни ванной. Раймонд нарисовал на стенах греческие колонны, а матрасы мы хранили в нескольких резных ящиках. Ночью мы вытаскивали их из ящиков и спали на них.
К этому времени Раймонд изобрел свои знаменитые сандалии, утверждая, что всякая обувь приносит вред. У него была склонность к изобретательству, и три четверти ночи он проводил, разрабатывая свои изобретения и стуча молотком.
Чарлз Нуффлар стал у меня завсегдатаем. Однажды он привел в нашу студию двух своих товарищей — красивого юношу по фамилии Жак Бонье и молодого литератора по фамилии Андрэ Бонье. (При одинаковом произношении фамилий между ними имеется существенная разница в транскрипции, в русском языке неуловимая, а именно: фамилия Жака Beaugnies, а Андрэ — Beaunier. — Пер.) Чарлз Нуффлар очень гордился мной и был рад продемонстрировать меня своим друзьям. Я изучала тогда музыку прелюдий, вальсов и мазурок Шопена. И тут у Жака Бонье возникла мысль попросить свою мать, мадам де Сан-Марсо, супругу скульптора, пригласить меня как-нибудь вечером протанцевать перед ее друзьями.
У мадам де Сан-Марсо был один из самых артистических и шикарных салонов в Париже. Репетиция была устроена в студии ее мужа. За фортепиано сидел замечательнейший человек с пальцами чародея. Он привлек меня к себе с первого взгляда.
— Замечательно! — воскликнул он. — Какая прелесть! Какой красивый ребенок!
И, обняв меня, поцеловал по французскому обыкновению в обе щеки. Это был Мессаже, великий композитор.
Наступил вечер моего дебюта. Я танцевала перед группой людей, любезность и энтузиазм которых меня совершенно пленили. Едва дождавшись завершения танца, они закричали: «Браво! Браво! Как она изящна!»
В конце первого танца поднялся высокий человек со сверлящим взором и обнял меня.
— Как твое имя, девочка? — спросил он.
— Айседора, — ответила я.
— А твое сокращенное имя?
— Когда я была маленькой девочкой, меня называли Доритой.
— О, Дорита, — воскликнул он, целуя меня в глаза, в щеки и в губы, — ты восхитительна!
А затем мадам де Сан-Марсо взяла меня за руку и сказала:
— Это великий Сарду![32]
В самом деле, в этой комнате присутствовали те, кто имел определенный вес в Париже, и когда я покинула ее, осыпанная цветами и комплиментами, трое молодых моих кавалеров, Нуффлар, Жак Бонье и Андрэ Бонье, эскортировали меня, сияя от гордости и удовольствия оттого, что их феномен имел такой успех.
Из этих трех юношей моим лучшим другом стал не высокий и веселый Чарлз Нуффлар и не привлекательный Жак Бонье, а низкорослый и невыразительный Андрэ Бонье. Он был бледный и круглолицый, носил очки, но какой же он был умница! Я всегда жила больше рассудком, и хотя этому не поверят, мои многочисленные любовные приключения, рожденные рассудком, были мне совершенно так же дороги, как и сердечные. Андрэ, в это время писавший свою первую книгу «Петрарка», ежедневно навещал меня, и благодаря ему я познакомилась со всем, что есть лучшего во французской литературе.
Каждый день после полудня у дверей студии раздавался робкий стук. Это был Андрэ Бонье, всегда с новой книжкой или журналом под мышкой. Моя мать не могла понять моего восторга перед этим человеком, не соответствовавшим ее идеалу любовника, ибо, как я уже говорила, он был толстый и маленький, с маленькими глазками, и надо было обладать проницательностью, чтобы понять, что эти глаза искрились острым умом и сметливостью. Часто мы ходили с ним гулять при лунном свете, и я чувствовала на своей руке робкое пожатие пальцев Андрэ.