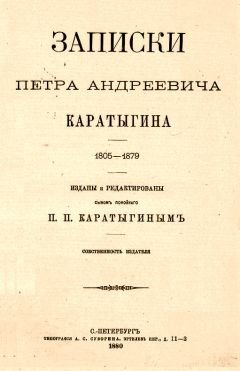Осенью 1819 года, у нас в школе произошли некоторые перемены: к нам определили двух, трех новых учителей. В числе их был профессор русской словесности Северин, преподававший нам риторику и отечественную литературу. Я был у него одним из первых учеников. Он заставлял нас писать небольшие сочинения и я за них часто удостаивался его особенных похвал. Мне также чрезвычайно нравился класс фехтования. Учителем у нас был Кальвиль, служивший фехтмейстером при театре. Впоследствии он учил весь гвардейский корпус и дослужился до майорского чина. В тогдашнее время почти ни одна мелодрама, ни опера, ни балет не обходились без военных эволюций и я был в числе самых отчаянных бойцов. Редкое театральное сражение обходилось без кровопролития и разные царапины и рубцы на лице и на руках, служили знаками нашего удальства и усердия к службе.
К этому периоду времени я должен отнести свою первую любовишку. Совместное жительство мальчиков с девочками, разумеется не могло не подавать повода к нежным увлечениям. Кто молод не бывал! Многие из моих товарищей, избрав себе предмет страсти, хаживали, бывало, в майский вечер под окошком, подымая глаза к небу, или вернее, на окна третьего этажа, откуда бросали на них благосклонные взгляды нежные подруги их сердец. В темные же осенние вечера, иной влюбленный «Линдор» бренчал у открытого окна на унылой гитаре, купленной в табачной лавке. — и на эти сигнальные аккорды являлась у своего окна миловидная Розина, с белым платочком на голове, который имел двоякое значение: во первых — чтобы не дуло в уши; а во вторых, чтобы Линдору легче было разглядеть впотьмах свою Розину. Часто жестокая дуэнья, в виде надзирательницы, прогоняла Розину и с шумом запирала окно; а альгвазил, в образе дежурного гувернера, отгонял бедного Линдора, В то время курительный табак начинал входить в общее употребление: у нас, в школе, также появились трубки и часто влюбленный юноша, подобно мусульманину, с чубуком в зубах, с красной фескою на голове, сидя у окна, вместе со вздохами пускал густые клубы дыму… Те и другие неслись к заветному окну, из которого выглядывала затворница-одалиска. Они не нуждались в «селяме», т. е. языке цветов, а объяснялись балетными пантомимами: ни малейший взгляд, ни единый жест не ускользали неприметно. Был у нас один взрослый воспитанник, Ефремов, готовившийся уже к выпуску из училища: он, для своих любовных проделок, приспособил странную манеру. Сидеть у окна без дела неловко — и Ефремов, чтобы отвлечь внимание любопытных, стоя у окна, обыкновенно чистил на колодке свои высокие сапоги. Предмет его страсти садился у своего окна с шитьем в руках, задумчиво поглядывая на влюбленного шута. Ее нежные взгляды, как в черном зеркале, отражались в голенищах ее любезного, руки которого были запачканы ваксой, но все же любовь была чиста! По выходе из школы, Ефремов предложил ей руку и сердце и сочетался с нею законным браком. Иная влюбленная пара садилась у окна с книжками в руках: перевернется листок в верхнем окошке, перевернется и в нижнем; она закроет книгу, и он закроет свою… Между ними был хоть и книжный разговор, но тут была своя грамота.
Пришла пора и моей первой любви.
Мудрено было не увлечься 16-ти летнему мальчику примерами старших. На гитаре я не играл, табаку еще не курил, сапогов не чистил; но на окошко третьего этажа стал также умильно поглядывать:
Но вы живые впечатленья,
Первоначальная любовь —
Как первый пламень упоенья
Не возвращаетесь вы вновь!
сказал Пушкин и, отчасти, был прав. Первая любовь бывает всегда вспышкою юного сердца, порывом души, жаждущей нежного чувства… Все это холостой заряд, без всяких последствий; это дебюты, в большинстве случаев, неудачные… но зато как сладостны эти впечатления первоначальной любви! Каким нежным, наивным чувством тогда бывает полно молодое сердце… (А наивность, замечу в скобках, есть грация глупости!).
Да, и я, глядя тогда на одно из окон третьего этажа, уносился в седьмое небо; читая «Кавказского пленника», я воображал себя на его месте, а она представлялась мне страстною черкешенкою. Я выучил эту прелестную поэму наизусть: любовь без поэзии немыслима! Я был счастлив, мне отвечали взаимностью… отвечали не словами, не пантомимою; нет! у нас был особый язык — глазами: недаром же и говорится, что любовь начинается с глаз. Но это была любовь — ультра-платоническая. Кто-бы поверил, в нынешнее реальное время, что я, любя ее более полутора года, живя в одном доме, встречаясь ежедневно, не сказал с нею ни слова, не смел подойти ближе пяти шагов? Да и к чему было говорить? Слова казались мне тогда слишком ничтожными: они не высказали бы моих чувств; а она… она так отлично умела говорить глазами! Бывало, стоя за кулисами, где-нибудь в темном уголку, я взорами следил за нею и она, в этой кордебалетной толпе, отыщет меня, взглянет долгим, пронзительным взглядом, и я счастлив — до новой встречи! Во время обеда я садился так, чтобы мне можно было ее видеть: даже в церкви глаза наши часто встречались. Бывали между нами и размолвки: то она сердилась, что я долго не подходил к окну, у которого она меня ожидала; то мне покажется, что она кокетничает с другим. В последнем случае у меня на лице изображалась грусть и ревность: но одного ее ласкового взгляда была достаточно, чтобы оно выяснилось! Эта немая любовь способствовала может быть развитию нашей мимики.
Мне никогда не приходилось танцевать с нею: она, как солистка, танцевала на первом плане, я же, в качестве фигуранта, был первым «от воды» т. е., говоря, не закулисным языком, танцевал на заднем плане, у декорации, изображающей море. Но, что значат моря и пространства для истинной любви? Она уничтожает всевозможные расстояния.
Пора, однако-же, для полной моей исповеди, сказать кто такая была эта она. Она была воспитанница, Надежда Аполлоновна Азаревичева, побочная дочь директора А. А. Майкова и одной старой фигурантки, бывшей уже на пенсии. Старшая ее дочь, Марья, была выпущена из училища в одно время со мною.
Наружность моей Лауры была, действительно, прекрасна, несмотря на рыженькие волоса, миниатюрный рост и неправильные черты лица. Ее карие глазки были полны огня, жизни и необыкновенно выразительны; их огненный блеск способен был, как телячью печенку, испепелить мое юное, неопытное сердце.
В это же самое время брат мой Василий был влюблен в другую воспитанницу, по фамилии Эрикову. Эта девица была необычайно малого роста. Если моя любовь была нема, то любовь брата была слепа, так как избранница его сердца не отличалась ни умом, ни красотой, ни дарованием. По выпуске из школы она поступила в хористки и затерялась в толпе бездарностей. Школьные мои товарищи подсмеивались над этим неудачным выбором и, видя брата и Эрикову за кулисами, называли их «Кириком и Улитой». Брат был огромного роста: разговаривая с нею он должен был сгибаться в три погибели… Но как быть: Геркулес прял у ног Омфалы, Самсон дал себя остричь Далиле! Крайности сходятся. Брат более году вздыхал по ней. И его любовь как моя была пустоцветом, фальшфейером!