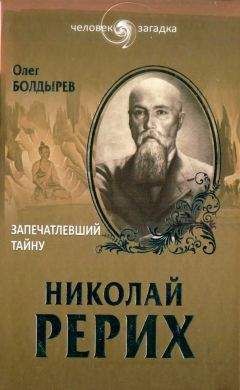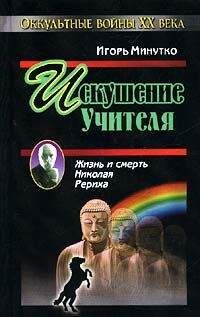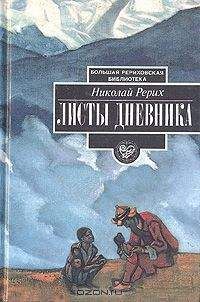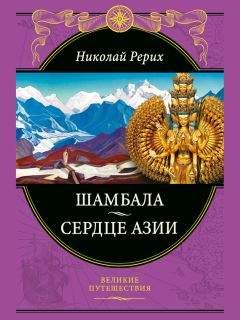В периодике развернулась бурная дискуссия о новом веянии в искусстве. Самым активным участником событий и обсуждений являлся Дягилев, имевший художественный вкус и мироощущение новатора, привлекавший к сотрудничеству деятелей культуры из самых разных сфер: музыкантов, литераторов, художников, театральных деятелей. Многие молодые и даровитые деятели получили у Дягилева поддержку и становились его сторонниками.
Н.К. Рерих воспринимался мирискусниками неоднозначно, преимущественно настороженно. Так. тот же С. Маковский заявлял: "Опасались и повествовательной тяжести, и доисторического его архаизма, и жухлости тона: а ну как этот символист из мастерской Куинджи — передвижник наизнанку? Что. если он притворяется новатором, а на самом деле всего лишь изобретательный эпигон?"
Критиковали Николая Константиновича и за некоторые изъяны в технике рисования. Особенно эта критика коснулась работы "Сходятся старцы", что вспоминал сам художник: "Первые картины написаны толсто-претолсто. Никто не надоумил, что можно отлично срезать острым ножом и получать эмалевую поверхность. Оттого "Сходятся старцы" вышли такие шершавые и даже острые. Кто-то в академии приклеил окурок на такое острие. Только впоследствии, увидев Сегантини, стало понятно, как срезать и получать эмалевую поверхность". Совсем резко высказался И.Е. Репин: "Рерих способен, даровит, у него есть краска, тон, чувство колорита и известная поэтичность, но что ему мешает и грозит — это то, что он недоучка и, кажется, не очень-то расположен из этого положения выйти. Он мало учился, он совсем плохо рисует, и ему надо бы не картины слишком незрелые писать, а засесть на 3–4 года в класс, да рисовать, да рисовать. А то ему грозит так навеки и остаться очень несовершенным и недоученным. Учиться надо. Рисовать серьезно надо! И тогда можно надеяться, что из него выйдет настоящий и замечательный художник… Одною даровитостью ничего не возьмет еще…"
Как бы подвел черту под мнениями о живописи Н.К. Рериха той поры Архип Иванович Куинджи: "Пути искусства бесчисленны, лишь бы песнь шла от сердца".
Николай Константинович признавал свои проблемы с техникой. Их решение он видел в поездке за границу для продолжения обучения технике рисования. Но Стасов отговаривал: "И хотя я и не художник, и не техник, а думал всегда то же и Вам говорил. Человеческие фигуры всегда меня оскорбляли у Вас, особливо во 2-й (нынешней картине). Чего тут ехать за границу, когда надо не ехать и смотреть на иностранцев (Вы это уже достаточно проделали на своем веку), а засесть за натуру (человеческую) и рисовать с нее упорно, ненасытно!.. Прислушайтесь к моим резонам и не будете сердиться на меня".
Кроме желания усовершенствовать технику, у Николая Константиновича присутствовало как раз стремление "смотреть на иностранцев" — основательно познакомиться с лучшей европейской живописью, классической и современной, посетив музеи, выставки, салоны, мастерские. В те дни он писал: "Задавило меня Петербургское болото, и захотелось мне на свежую воду, чтобы не жить все старыми соками, а собрать в мою житницу что-либо из вековой культуры Запада, на фоне которой еще рельефнее выступает наша оригинальная самобытность и хочется разрабатывать именно ее".
Выбор пал на "бесконечный город работы" Париж и мастерскую выдающегося французского художника-реалиста Фернана Кормона, настоящего приверженца академизма, первоклассного педагога, кавалера ордена Почетного легиона. Всемирно известные Винсент Ван Гог и А.Тулуз-Лотрек были в числе его учеников, и русские художники также стремились пройти его школу рисования.
Летом 1900 года скончался отец Н.К. Рериха Константин Федорович Рерих, последние месяцы жизни тяжело болевший. В связи с этими обстоятельствами его нотариальная контора была закрыта, а столь любимое семейное поместье в Изваре продано. В сентябре того же года Николай Константинович уезжает в Париж учиться живописи. Трагические семейные события лета 1900 года отразились на душевном состоянии Н. Рериха в полной мере. Своей невесте Елене Ивановне он пишет из поезда, увозившего его в Европу:
"Милая моя Лада, итак, я еду. Не многим пожелаю я такого состояния, каково мое теперь. Что-то сломалось, не я — наоборот, я после вчерашнего конца разговора нашего я стал даже цельнее, но сломалось что-то вокруг меня; я чувствую, что я что-то порвал, вырвался из какого-то заколдованного круга. И все же мое самое хорошее осталось невредимо, осталось, чтобы расти и крепнуть. Я верю в Тебя, моя хорошая, и, быть может, все к хорошему. Знаешь, у Тебя большая душа и глубокая. Когда ехал на вокзал, вдруг нестерпимо захотелось мне заехать к Тебе, и еще раз, хоть минутку, посмотреть и разок поцеловать Тебя, мою славную…
Как Ты себя чувствуешь? Пиши на Берлин, я там еще пробуду. Вчера я спать так и не ложился. Собирал письма, соображал и ощущал какое-то странное чувство — оно у меня впервые — странной решимости. Ведь если я когда-нибудь окажусь не простым пустомелей, ведь если Ты когда-нибудь будешь в состоянии бросить всем насмешку в том, что чувство Тебя не обмануло — ведь тогда Ты полюбишь меня еще сильней — и какая это будет награда!.."
Родные Елены Ивановны поначалу не приняли отношений, возникших между Николаем Константиновичем и Еленой Ивановной, и приложили немало усилий, чтобы их жизненный союз не состоялся. Считали, что Рерих повел себя неправильно, уехав учиться в Париж, вместо того, чтобы продолжить начатую служебную карьеру. Письма Елены Ивановны Николаю Константиновичу в Европу писались под диктовку матери, которая мечтала выдать дочь замуж за сына владельца крупного волжского пароходства. Да и кажущаяся "незнатность" рода Рерихов не нравилась Голенищевым-Кутузовым, именитым российским дворянам.
Николай Константинович, хорошо чувствующий отношение к себе со стороны родных Елены Ивановны, взывал к ее чувствам: "Дорогая моя Ладушка, с болью прочел я письмо Твое — что-то неладное творится с Тобою. Зачем Тебе все эти выезды, все эти гулянья и прочее — разве в них Ты должна искать себя? Ты говоришь, что все это не отразится на музыке; неправда, оно должно, непременно должно отразиться; должно отразиться, может быть, даже невидимо для себя. Все эти выезды со всею их пошлостью, разве могут они способствовать обострению чувства в смысле понимания музыки? Насколько хороши для этого театры и концерты, настолько непригодны вечера и балы. Нового-то кругом много, но что Ты называешь новым и где его искать собираешься — мне не ясно. Если Ты временно думаешь заслонить недостижимую жизнь другою жизнью, то помни, что не следует за неимением скамейки непременно садиться на помойную яму. Миленькая, не погуби способностей своих, ведь чутье развивается в нас только до известного времени, а потом оно грубеет; дорогая, не пропускай этого времени — оно так недолго, оно пролетит так быстро и если за это время в Тебе не вырастет чего-либо крепкого и здорового, то тогда останется один хмельной перегар и горечь, ничем не поправимая. Дальше от больших компаний! глубже в себя! — если хочешь сделать что-либо достойное. Быть художником, вести за собою публику, чувствовать, что каждой нотой своей можешь дать смех или слезы — это ли не удовлетворение?"