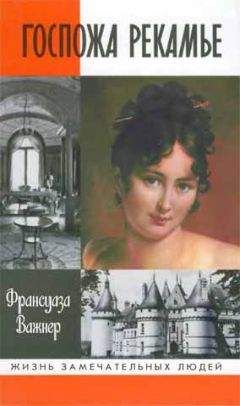На этом несчастья «бедного месье Лагарпа» не закончились. Вслед за злополучным эпизодом его семейной жизни последовали суровые меры против роялистов. В ночь с 3 на 4 сентября генерал Ожеро, отозванный Баррасом из Итальянской армии, чтобы встать во главе Парижской дивизии, «спас» Республику: арестовал заговорщика Пишегрю, члена Директории Бартелеми и большинство депутатов, заподозренных в роялизме. Члену Директории Карно удалось бежать. Свобода печати была отменена, вернувшимся эмигрантам в случае ареста грозила смертная казнь. Использовалась также «бескровная гильотина», то есть высылка в Гвиану. Явные сторонники монархии забеспокоились.
Госпожа де Сталь, в те времена близкая к правительству и отчасти бывшая вдохновительницей переворота, вовремя предупредила некоторых из них. Лагарп укрылся в Корбее, недалеко от столицы. Бесстрашием он не отличался. Жюльетте, наносившей ему визиты, приходилось выполнять инструкции по безопасности, которые он дал ей в письменном виде.
Вот так, проявляя одновременно стойкость и благодушие, что было свойственно ей одной, Жюльетта начала карьеру, обессмертившую ее в другом качестве: деятельность в пользу побежденных и изгоев, каков бы ни был угнетавший их режим.
Той осенью 1797 года Бонапарт с триумфом вернулся из Италии. В нем уже ничего не осталось от молодого, голодного и растерянного офицера, окунувшегося в круговерть Парижа щеголей и спекулянтов в надежде попасть под крылышко Барраса. «Генерал Вандемьер» стал силен и получил вознаграждение за расстрел из пушек парижских роялистов. Ему преподнесли две вещи, которых он желал больше всего на свете: власть и жену. Кот в сапогах превратился в молодого волка, пылкого и честолюбивого. Пост главнокомандующего внутренних войск позволяет ему жениться на своей прелестнице Жозефине, в которую он тогда был безумно влюблен, и, едва вступив в брак, он с лихорадочным воодушевлением отправляется в путь, чтобы возглавить Итальянскую армию. Ему еще не сравнялось двадцати семи лет. Началась его карьера завоевателя.
Первая итальянская кампания, проведенная в темпе allegro con brio, останется шедевром в своем роде. Компенсировав талантом стратега малочисленность своих войск, Бонапарт твердой ногою встал в Пьемонте, затем в Ломбардии и, одержав в январе 1797 года победу при Риволи, был готов идти на Вену, от чего его избавило перемирие, заключенное 18 апреля в Леобене.
Блестящий артиллерист учится управлению государством: «Война должна кормить войну». Ему приходится, практически импровизируя, организовывать завоеванные земли в маленькие «Дочерние республики»: Лигурийскую, Циспаданскую, Цизальпинскую.
Он становится дипломатом, заключив, основываясь на собственной позиции, договор в Кампо-Формио 17 октября. Франция получила графство Ниццу и Савойю, аннексировала Бельгию, оставленную Австрией, которой в утешение была предложена область Венеция. Республики-спутницы получили признание.
Ему удалось подчинить себе недисциплинированную, малочисленную, оборванную и голодную, но пылкую армию. «Виду он был невзрачного, репутацию имел математика и мечтателя, у него не было ни сторонников, ни друзей, его считали медведем, потому что он думал всегда в одиночку. Нужно было создать всё — он и создал всё. Вот что было в нем самого замечательного», — писал один из его офицеров.
Понятно, почему, по возвращении в Париж, он всем казался героем. Популярность его была огромна: генерал-победитель, такого уже давно не видали! Директория опасалась такого честолюбия и пыла, однако виду не показывала: Бонапарт был нарождающейся легендой. В таком качестве его и следовало принимать.
Парижское общество, бурля от восторга и любопытства, наперебой пыталось завладеть вниманием и, если возможно, соблазнить молодого бога войны. Не тут-то было. Он с непробиваемой скромностью принял все почести, уготованные ему столпами государства, твердо и даже резко отклонив делавшиеся ему авансы. Госпожа де Сталь что-то поняла… Как это опьянение, чередование банкетов, празднеств, церемоний с участием надушенных и разодетых толп должны были казаться ему непривычными, если не сказать непристойными, по сравнению с суровостью и скудостью итальянских бивуаков!
Пребывание Бонапарта в Париже ознаменовалось встречей, основополагающей для будущего Франции, — с другим выдающимся человеком, курировавшим тогда вопросы внешних сношений: Талейраном. Оба были околдованы. Талейран признается: «С первого взгляда лицо Бонапарта показалось мне очаровательным. Двадцать выигранных сражений очень идут молодости, красивому взгляду, бледности, некоторому истощению…» Какое тонкое замечание! Бонапарт же восторгался (и втайне завидовал) принадлежностью Талейрана к прежней аристократии. Глядя, как прихрамывает потомок графов Перигорских, он заметил, что этот сановник умеет придать себе элегантности своим увечьем.
Идейно они были близки. Оба не принимали перегибов 1793 года, Талейран сожалел о бессмысленном уничтожении творений цивилизации, которыми так дорожил, Бонапарт всей душой ненавидел «посредственностей» и «идеологов». Обоих раздражали примиренчество и обезьянничание Директории. Оба имели высокое и точное представление о превосходстве Франции в том, что у нее есть наиболее завидного и непреходящего: духовности. Их взгляды на власть и европейскую дипломатию совпадали — по крайней мере, на тот момент. Зрелость, умение и прозорливость первого, буйный гений и способность к обучению второго достаточно объясняют, почему они поладили.
Гражданин министр принял генерала-миротворца с супругой в отеле Галифе. Прием, заданный с несравненной щедростью, вошел в парижские анналы. Это был поток элегантности, какое-то чудо. Жюльетта, хотя ее уже замечали в Лицее, на прогулке или в театре, хотя ее белый силуэт уже выискивали взгляды знатоков, не присутствовала среди пятисот избранников Талейрана. В этом не было ничего удивительного: чудесная известность госпожи Рекамье тогда только зарождалась.
И всё же она встретилась с героем, причем странным образом — без слов, что наложит отпечаток и на нее саму, и на трудные взаимоотношения, которые она будет с ним поддерживать, целиком выразившиеся в этом первом контакте. Встреча произвела на Жюльетту сильное впечатление. Госпожа Ленорман воспроизводит ее достаточно достоверно:
10 декабря 1797 года Директория устроила торжество в честь покорителя Италии. Прием состоялся в большом дворе Люксембургского дворца. В глубине двора возвышались алтарь и статуя Свободы; у подножия этого монумента стояли пять директоров в римских одеяниях; министры, послы, чиновники всякого рода сидели, располагаясь амфитеатром; позади них находились скамьи для приглашенных. У окон всего фасада здания толпился народ; толпа заполняла также двор, сад и все улицы, ведущие к Люксембургу. Госпожа Рекамье с матерью заняли места на скамьях. Она никогда не видела генерала Бонапарта, но разделяла тогда всеобщие восторги и была очень взволнована его новорожденной славой. Он появился; в то время он был еще очень худ, в лице же его читались поразительные величие и твердость. Его окружали генералы и адъютанты. На речь господина Талейрана, министра иностранных дел, он ответил несколькими краткими, простыми и нервными словами, которые были встречены бурными приветственными кликами. Со своего места госпожа Рекамье не могла различить черт Бонапарта, совершенно естественное любопытство побуждало ее их разглядеть; воспользовавшись моментом, когда Варрас длинно отвечал генералу, она встала, чтобы взглянуть на него.