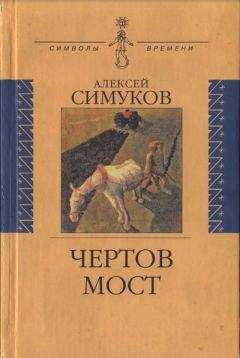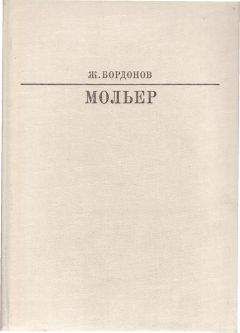Известно, что классицизм, переняв от искусства Возрождения, принцип изображения страстей как главной динамической сущности характера, лишил их конкретности. На творчестве Мольера это свойство классицистской поэтики сказалось в наименьшей степени. И если Мольер подчиняется нормам рационалистической эстетики, то это проявляется не в нивелировке житейской конкретности его персонажей, а в традиционном отсечении всего того, что может нарушить строгую определенность сюжета или затуманить основную, единственную тему образа-типа.
Страсти в изображении Мольера никогда не фигурировали на сцене только как психологические черты, индивидуальные свойства данного персонажа; они концентрировали в себе самую сущность натуры и выражали в негативной форме воззрение художника на окружающий его жизненный уклад.
Критика, отмечая монолитность и односторонность мольеровских характеров, справедливо говорит о принадлежности драматурга к классицистскому направлению. Но при этом упускается из виду то важнейшее обстоятельство, что рационалистический метод в построении образа и в композиции самой комедии был лишь формой, в которой нашли свое выражение народные представления о социальном зле, представления, обладающие ярко выраженной идейной тенденциозностью, определенностью и беспощадностью народной критики, яркостью и выразительностью красок площадного театра. Это народное начало получало свое наиболее прямое выражение в бодром, оптимистическом тоне, охватывающем весь ход комедий Мольера, пронизывающем все ее образы, в том числе и сатирические, через которые просвечивала убийственная ирония автора и его гневный сарказм.
Но сатира Мольера никогда не приобретала внешнего характера, не нарушала реалистической жизненности поведения персонажей, бывших носителями тех или иных социальных пороков. Эти герои искренне уверены в справедливости своих идей и поступков; они одержимы своими страстями и самозабвенно борются за их осуществление. И чем одержимее они в этой борьбе, тем смешней, так как смех рождается из несоответствия их поведения с низменностью их целей. Заурядные побуждения возводятся в идеал, и это делает самоуверенность мольеровских персонажей мнимой, как бы изнутри самого образа сатирически обличающей пошлые страсти. Когда же, к финалу действия, сатирические персонажи терпят крах, то, сохраняя при этом драматизм своих переживаний, они не вызывают у зрителей никакого сочувствия, ибо понесенное ими наказание воспринимается как возмездие, которое ими вполне заслужено.
Народность Мольера проявлялась и в общем стиле его комедий — все они (за исключением тех, которые писались для придворных празднеств на мифологические и пасторальные сюжеты[15]) пронизаны духом народного оптимизма, откровенно выраженной демократической тенденциозностью, стремительной динамикой в развитии действия, энергической, яркой обрисовкой характеров и, что особенно показательно для народного театра, атмосферой бодрости и живительной веселости.
Свободный дух народного театра не покидал Мольера за все годы его творчества. Он восторжествовал в его первой комедии «Шалый», и он же пронизывал одно из самых последних творений Мольера — шедевр его комического гения «Плутни Скапена» (1671).
Плебей Скапен, помимо обычных достоинств народного героя — острого ума, энергии, знания жизни, оптимизма, — был еще наделен Мольером новыми чертами: чувством собственного достоинства и, что особенно важно, способностью видеть пороки социального устройства. Скапен, оскорбленный своим молодым господином Леандром, соглашается помогать ему только после того, как тот становится перед ним на колени, а желая отплатить за клевету своему старшему хозяину, Жеронту, Скапен засаживает его в мешок и, повторяя традиционную театральную проделку, самолично колотит почтенного буржуа. По новым временам, обидеть плебея оказывается делом не безнаказанным. Отстаивая свое достоинство, Скапен вызывал полное сочувствие зрителей, ибо он действительно был человеком рядом с глупцами и простофилями старшего поколения господ и их беспомощными и легкомысленными отпрысками.
Преимущество Скапена определялось не только его природным умом и энергией, но и его знанием людей и жизни. И если традиционным было умение Скапена пользоваться знанием характеров для выполнения своих хитроумных замыслов, то совершенно новым был тот широкий круг наблюдений над жизнью, который впервые демонстрировался в комедии и указывал на своеобразный рост мировоззрения плебейского героя. Предостерегая старика Арганта от обращения в суд, Скапен рисует очень точную и вполне правдивую картину современного ему судопроизводства. Он говорит: «Сколько там апелляций, разных инстанций и всякой волокиты, у каких только хищных зверей не придется вам побывать в когтях: приставы, поверенные, адвокаты, секретари, их помощники, докладчики, судьи со своими писцами! И ни один не задумается повернуть закон по-своему, даже за небольшую мзду. Подсунет пристав фальшивый протокол, вот вас и засудили, а вы и знать ничего не знаете. Поверенный стакнется с противной стороной и продаст вас ни за грош. Адвоката тоже подкупят, он и в суд не явится, когда будут разбирать ваше дело, или начнет плести всякую чепуху, а до сути так и не доберется. Секретарь прочтет вам заочно обвинительный приговор. Писец докладчика утаит документы, а не то и сам докладчик скажет, будто бы он их не видал. А если вам с великим трудом удастся всего этого избежать, то и тогда окажется, к вашему удивлению, что судей уже настроили против вас их любовницы или какие-нибудь ханжи. Нет, сударь, если можете, держитесь подальше от этой преисподней. Судиться — это все равно, что в аду гореть. Да я бы, кажется, от суда на край света сбежал».
И вслед за этими словами гневного обличения судейского произвола и волокиты следовал второй монолог Скапена, клеймящий гнусную продажность королевских судей.
Если верно ощутить дерзостный дух речей последнего плебейского героя Мольера, то ясно можно себе представить, что следующим этапом в развитии мировоззрения плебейского героя будет превращение его знания социальных пороков дворянско-буржуазного общества в прямую потребность вступить в решительную борьбу с этими пороками. Доказательством верности такого предположения может служить образ Фигаро из комедии Бомарше, предтечей которого являются не корыстные и циничные слуги из пьес Реньяра и Лесажа, а деятельный, смелый, по-своему благородный и вольнолюбивый Скапен, за сто с лишним лет сказавший о французском суде те слова суровой правды, которые Фигаро скажет о социальном строе дворянской Франции в целом.