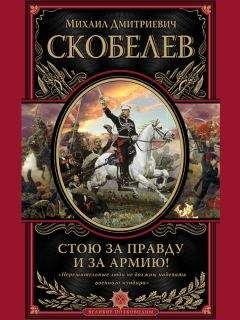После того письма литобъединение и прихлопнули.
До сих пор безмерно жаль. Ведь альманах был почти собран.
Из Новосибирска дала стихи Нина Грехова. Известный палеонтолог (граптолитчик) Александр Михайлович Обут передал нам стихи своего покойного к тому времени друга А. П. Быстрова — крупного биолога, автора замечательной, отруганной всеми официальными оппонентами книги «Прошлое, настоящее и будущее человека». Понятно, в рукопись вошли стихи Володи Бойкова, Валеры Щеглова, Володи Горбенко, Лёши Птицына, первая проза Тани Янушевич. Представляю, с каким изумлением читали партийные ревизоры (а им-то о нас уже всё было известно) стихи физика (материалиста по определению) Володи Захарова — о какой-то библиотеке Бога, в которой
…покрываются пылью
души умерших людей,
души убийц и поэтов,
мучеников и прохвостов,
души рабов и вождей.
На V пленуме Советского РК КПСС 25 июня 1962 года секретарь Советского райкома КПСС Б. В. Судаков докладывал: «Газета «Университетская жизнь», грешившая и в прошлом публикацией низкопробных стихов, в № 12 поместила стихотворенье лаборанта Института геологии Валерия Щеглова «Третье поколение», явно недоработанное, ложно представляющее нашу действительность…» А в докладе на III партконференция СО АН СССР 29 ноября 1962 года секретарь парткома СО АН СССР Г. С. Мигиренко говорил еще проще: «В самопроизвольно возникшем и длительное время беспризорно существовавшем литературном объединении долгое время верховодил Прашкевич, без достаточного образования и политически совершенно незрелый, стремящийся противопоставить свои доморощенные взгляды социалистическому реализму…» И чуть позже дополнял свое сообщение: «Я не раз говорил, что у нас возникают периодически какие-то культурно-массовые образования: вот захотелось трем-пяти человекам создать какой-то литературный кружок, свое литературное объединение, например, оно и возникает и плывет без руля и без ветрил по бурному океану смутных мыслей. В наше литературное объединение входят неплохие ребята, но они договорились до того, что социалистический реализм — ничто, эстетика — все. А куда им судить? Это еще очень молодые люди. Когда речь идет о кардинальных вопросах, то нужно советоваться со старшими людьми. Они этого не делают и городят всякую чепуху. А члены партии и комсомольцы тоже сидят и слушают, развесив уши, и не считают своим долгом, как каждому коммунисту положено Программой и Уставом партии, находясь в любом месте, всегда быть человеком, который должен задавать правильный тон в освещении любого вопроса…».
Все эти документы извлек в конце 90-х из Госархива Новосибирской области историк А. Г. Борзенков. Они опубликованы в его трехтомной монографии «Молодежь и политика» (Новосибирск, 2002). Чудесный поэтический рай, в который мы глубоко верили, на поверку оказался всего лишь очередной модификацией искусственного советского быта. В газете «За науку в Сибири» секретарь комитета комсомола СО АН СССР Б. Н. Мокроусов с удовольствием указывал на просчеты: «Сотрудник ИГиГ Прашкевич отказывается от социалистического реализма в пользу декадентов, оплёвывает ряд советских поэтов…»
И я вернулся в Тайгу.
Именно тогда была написана повесть «Столярный цех»?
Да, с этого началась моя «серьезная» проза.
В столярном цехе я проработал почти год. Моя будущая жена Лида Киселева закончила за это время НГУ (первый выпуск, геофизика) и мы с нею уехали на Сахалин. Очень вовремя, поскольку время «оттепели» закончилось.
А как ты познакомился с будущей супругой?
О, прекрасно помню этот вечер! На собственном дне рождения, вот где!
Всей компанией мы собрались (за неимением другого места) в археологическом отделе Института истории, — среди черепков, наконечников стрел и прочих ископаемых предметов. Там я и увидел Лиду Киселеву, студентку НГУ…
И мгновенно и навсегда влюбился.
Но летом 1963 года ты еще ездил в Ленинград, общался с Александром Прокофьевым, с Анной Ахматовой…
Да, это было. Андрей Вязников, очень славный человек из круга Валентина Михайловича Шульмана — химика, колоссального знатока поэзии, дружески опекавшего молодых литераторов Академгородка, вывел меня на Александра Прокофьева. Созвонившись с поэтом, я 19 июля 1963 года приехал в Комарово. Александр Андреевич сидел в саду перед легковой машиной — что-то в ней не ладилось. Без всякого удивления он выслушал мои объяснения: ну да, чего особенного… ну, парень из Сибири… комсомольские стройки, энтузиазм…
Но прочитанные мною стихи Прокофьева удивили.
«Мастера красоты, проигравшие жизнь…» Гм… Во-первых, не чувствовалось того самого комсомольского энтузиазма, во-вторых, записаны мои стихи были в сплошную строку, без какой-либо разбивки на строфы, а в-третьих, и это главное, Прокофьев, опытный стреляный волк, сразу учуял в моих стихах следы чуждых влияний.
«Писать так, как ты пишешь, — насупился он, — сейчас нельзя».
Я не удивился. Я ведь следил за тем, что печаталось в журналах и в газетах. Стихи Прокофьева мне, кстати, нравились. «В окопах выла стоймя вода, суглинок встал на песок, снайперы брали офицеров прицелом под левый сосок…» Но, был уверен я, писать можно и по другому. «Эпоха! Ты меня бросала в безумные глаза вокзалов…» Разве поэт не поймет поэта?
«Ты куришь? Дыми, дыми… — Прокофьев рассмеялся: — А я вот бросил. Хотя раньше много курил. Особенно за границей… — Опять засмеялся: — Почему много? Почему за границей? Да чтобы глупым не выглядеть… — Покачал головой: — Нет, ты берись, берись за ум… Нам нужны молодые поэты… Я вот недавно целую поэму Глеба Горбовского зарубил. Он талантливый человек, но большой путаник. Ясности у него нет в мыслях, отсюда и слог. И Виктор Соснора, — взглянул он на меня, — тоже не понимает слов добрых… Я уж не говорю о Вознесенском! — Он фыркнул презрительно: — «И как в пруду карась!» Это про негров-то! — И еще раз предупредил: — Будешь следовать таким примерам, поэтом тебе не быть!»
Такое мне потом многие говорили.
И не одна моя книга потом ушла под нож цензуры.
А вот Анна Андреевна Ахматова ни о чем таком не говорила.
Я побывал у нее на улице Ленина и навсегда остались в памяти пухлые пальцы, давно и привычно сдавленные кольцами, и глаза, выцветшие, но живые, обеспокоенные. Анна Андреевна никаких советов не давала, но она и стихов никаких не слушала. Больше всего ее в то время (и не только в то) тревожило: не страдают ли из-за нее люди, как это много раз уже случалось. Наверное, впервые тогда я почувствовал, что поэзию, да и всю литературу делает, конечно, чувство вины…