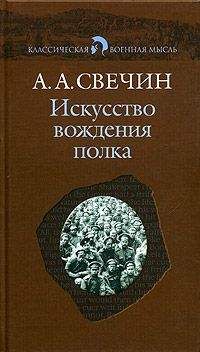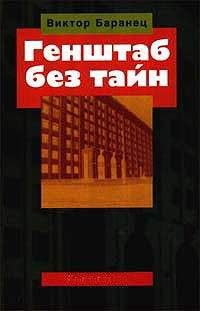Тот, который «выстрелил в затылок без предупреждения», стоял рядом и сверкал злыми и хитрыми глазенками. Когда-то я ему тоже безоглядно верил. Он оказался артистом. Бывают артисты, которые хуже предателей. На прощание я не подал ему руки.
«Артист» уже успел дать команду коменданту Генерального штаба. Постовой прапорщик выхватил из моих рук пропуск и срочно вызвал двух солдат-охранников.
Встреча с Родионовым состоялась в 9.30 утра. В 10.25 я был уволен из Вооруженных Сил, хотя фактически еще находился в отпуске и еще не прошел даже военно-врачебную комиссию…
Было воскресенье. В коридорах Генштаба стояла тишина. Я шел под конвоем солдат к выходу. Я улыбнулся себе при мысли, что в такой ситуации не хватает только заложить руки за спину.
…Знакомо вскрикнула и хрипло что-то пропела толстая ржавая пружина: за моей спиной закрылась черная дубовая дверь с толстыми, как двухсотграммовый стакан, ручками, протертыми до желтого дерева и увенчанными шарообразными бронзовыми набалдашниками.
Я оказался за дверью Генштаба, на ноздреватом сером граните ступенек, где много лет назад топтался в новенькой шинели и с окурком в рукаве, не решаясь от страха войти в здание, от которого веяло холодным величием Пантеона…
Я оказался в оглушительно орущей толпе, размахивающей красными флагами. Активисты Союза офицеров пикетировали Минобороны. В толпе я узнал председателя Союза подполковника Терехова. Мы поздоровались. Он пригласил меня на демонстрацию по случаю Дня защитников Отечества.
Я стоял посреди наэлектризованного людского озера, курил и никак не мог понять, ради чего проводится пикетирование. Отставные офицеры в старой советской форме и в гражданке совали мне листовки и газеты, солеными матюками костерили Ельцина и Чубайса. Морозный и колючий февральский ветер яростно трепал пожелтевшие плакатики с призывами к патриотам объединяться в борьбе против оккупационного режима.
Старый седой отставник подошел ко мне с таким же древним альбомом с выцветшими фотографиями и, тыча в одну из них пальцем, гордо сказал:
— Видите мальчишку рядом с Буденным? Это я!
Я только сделал вид, что мне страшно интересно. В голове было совсем другое.
Перед тем как войти в метро, я оглянулся. Гигантский беломраморный улей смотрел на меня сотней своих черных прямоугольных глаз. Когда-то я входил в него, словно в святилище. Теперь он почему-то казался мне гигантским надгробным памятником. Наверное, потому что под ним я схоронил свою надежду на достойную армейскую жизнь.
Дома снял форму, налил до краев стакан водки и сказал себе:
— Полковник Баранец!
— Я!
— Принять за окончание службы!
— Есть!!!
Не брало.
Я налил себе еще полстакана.
…Сон не шел. Я оделся, взял догиню Шерри и пошел прогуляться на Крылатские холмы. Уже целых четыре часа я был отставным полковником. Тридцать один год, три месяца, шесть дней… И четыре часа. Мы взобрались на самый высокий холм посреди Крылатского. Слева был дом президента, в центре церковь, вдали Останкинская телебашня. Москва стояла между этими ориентирами: дом Ельцина — золотой, слегка наклоненный, церковный крест — останкинский шприц.
Я подумал, что не только Москва — вся Россия между этими символами веры. Хотя, наверное, Ельцин и Останкино — одно и то же.
В вечерней тишине плеснулся по округе мерный и певучий звон церковных колоколов.
Ноги невольно двинулись по сухому и скрипучему февральскому снежку в сторону церкви. Несколько месяцев назад в этой самой церкви жена надумала меня окрестить. Я долго сопротивлялся, свирепствовал и кричал.
…Есть в маленьком городишке Барвенково под Харьковом, где я родился и прожил восемнадцать лет, сказочной красоты церквушка. За всю свою жизнь я ни разу не вошел в нее. Церковь с одной стороны отгорожена забором от так называемого «пункта заготовки зерна» — множества складов, до самой крыши набитых пшеницей, подсолнухом, ячменем и кукурузой.
Каждое лето перед новым урожаем бригада рабочих во главе с отцом «латала» полы в этих складах, накладывая огромные асфальтовые заплаты. Я носил отцу обед в корзинке. Пока он ел, я сквозь дыру в заборе рассматривал лепнину на церковных стенах и таинственное церковное подворье. С того па-цанячьего времени сохранилась в памяти картина дивной красоты: яркое полуденное солнце, зеленая трава, ослепительное золото крестов и чистенькая старушка в фартуке, старательно ощипывающая мертвую белую курицу…
Однажды отец разрешил мне пострелять из малокалиберной винтовки в ворон, которые несметными тучами кружили над горами зерна. Их было так много, что редкий выстрел не достигал цели. Одна из ворон упала на церковное подворье, и мне захотелось забрать свою добычу. Сквозь дыру в заборе я проник на подворье и подобрал в траве окровавленную ворону. И там же неожиданно встал на моем пути человек в черной рясе с большим крестом на груди. Он незлобливым голосом пристыдил меня за богохульство и выдворил за пределы церковных владений. Страх мой пред этим человеком был ужасен настолько, что большего я, кажется, никогда не испытывал…
Я прибежал к отцу, оставил винтовку возле котла с кипящим гудроном и забился от страха пред обещанным мне наказанием среди свалки старых грязных досок. Меня колотило. Я то и дело поглядывал в небо, ожидая кары. Отец нашел меня и успокоил:
— Им куриц резать можно, а нам ворон нельзя?
Белая курица и черная ворона так навсегда и вмуровались в мое сознание, как два символа и две истины. В ту же осень я сломал руку. И воспринял это как таинственное наказание за тот свой, вороний грех…
Дожив до первой седины, я в барвенковской церкви так ни разу и не был. Сначала был пламенный пионерский галстук, потом алый комсомольский билет. А с партийным идти к иконам уже и вообще считалось кощунственным.
В военном училище и в академии у меня были пятерки по научному атеизму. В свое время я был начальником партийного отдела газеты и заместителем редактора главного партийно-политического журнала Вооруженных Сил. В моем послужном списке значилось несколько месяцев службы в должности референта начальника Главного политического управления…
С какой стороны ни глянь — везде я политический.
«И теперь менять принципы и взгляды?!» — так кричал я сам себе, много раз бродя по оврагам вокруг церкви, за которую меня агитировала жена.
От этих жгучих мыслей в мозгах появлялось все больше пепла.
Когда пошла в моей жизни черная полоса невезения, я сломался. И поставил жене условие, — чтобы никого больше в церкви во время крещения не было. Однажды жена пришла радостная и сказала:.