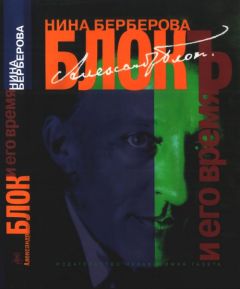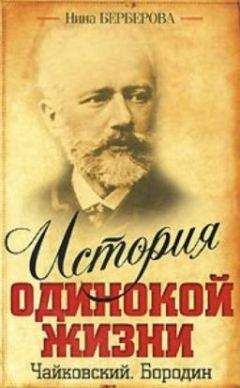Я еду на старые места. Я хожу по улицам "мимо зданий, где мы когда-то танцевали, пили вино". Я возвращаюсь переулками снова и снова на тот бульвар, что ведет от Обсерватории к вокзалу Монпарнаса. В одном из переулков я вхожу в ресторан - весь в клетчатых скатертях и салфетках. Час обеда. Я сажусь за столик. Пахнет смесью розмарина и лаврового листа, в которых где-то тушится мясо. Я заказываю еду, и сижу, и смотрю, и слушаю, что происходит вокруг. И как глаза иногда, приглядевшись к темноте, начинают узнавать предметы, так моя память, медленно, ощупью, кружа вокруг сидящей в углу женщины, вдруг узнает ее. Это - Симона де Бовуар.
Я увидела ее в первый раз в 1943-1944 годах - веселую, оживленную, молодую. Она шла по улице, качая широкими бедрами, гладко причесанная, с глазами, светящимися жизнью и мыслью. И вот прошло двадцать два года, и я не сразу узнала ее. Толстыми неловкими пальцами она играла сломанным замком своей старой сумки, наклоненное лицо казалось упавшим, оно было как бы без глаз - заплывшее, мрачное, с тяжелыми щеками и опухшими веками. В третьем томе своих воспоминаний она писала о своей внешности. Как жестоко говорила она о себе! Вся книга полна больницами, операциями, ужасом перед старостью и смертью; она пишет о давлении крови (своем и Сартра), о близком сердечном припадке. Сартр - как автомат - занят "Критикой диалектического разума", в последние годы он так перегружен работой, что у него нет времени даже перечитать то, что он написал. Он глохнет от снотворного. Друзей не осталось... Теперь я вижу ее перед собой, она сидит вдвоем с другой женщиной, еще не старой, но раздраженной и усталой, как и она сама. Обе молчат. Толстые пальцы шевелятся, все пытаясь защелкнуть замок, темное закрытое платье плотно обтягивает ее большое тяжелое тело. Я долго смотрю на нее; она не поднимает глаз, и видны только веки и щеки. Что-то, должно быть, неладно с почками или с печенью, что-то у нее внутри - как она сама писала - не работает, с трудом продолжает ей служить, с перебоями, с замедлениями и угрожающими перерождениями. На мгновение я отчетливо представляю себе, как у нее все обстоит внутри: расширенные вены, перебои сердца, раздутые органы, ленивые железы... Обо всем этом она сказала сама. И я представляю себе ее наружное окружение: ее студию, где она теперь проводит дни и ночи и где она возненавидела даже музыку. Там развешаны ее гаванские и пекинские сувениры - да, она и о них писала подробно.
Ее книги всегда были моим чтением, и третий том ее мемуаров только что окончен мною. Она писала там о головных болях, об опухании ног. Она жаловалась, что Сартр, всю жизнь требовавший engagement и без engagement не признававший литературы, вот уже четверть века не может решить, на какую сторону ему стать? как ему быть? кем ему быть? И время от времени мрачно спрашивает: что нам делать? куда нам идти? с кем нам быть?
Я смотрела на нее и думала: вот так, как я ее вижу сейчас, она однажды видела Эльзу Триоле, на обеде в советском посольстве, и удивлялась, какое у нее угрюмое выражение лица. Обе они тогда занимали советского посла разговорами, как сохранить молодость. Арагон тоже был обеспокоен этим, угнетен и подавлен наступающей старостью...
Она теперь крутит ложечку в своих мужских пальцах. Всю жизнь она старалась отделаться от буржуазных предрассудков, ей это не удалось: она боится смерти. Чтобы заглушить в себе сознание - запоем читает полицейские романы.
Сартр хотел быть коммунистом. Потом он хотел быть алжирцем (некто Иведон, умирая за Алжир, воскликнул: "Я - алжирец!"). Одно время он признавался: без коммунистов мы ничего не можем. С коммунистами Сартр и она ходили на уличную демонстрацию против де Голля. В тот день один из их коммунистических друзей признался им, что никогда не ездил в метро, сегодня едет впервые - всю жизнь пользовался только такси. Дела в Венгрии в 1956 году они оба осудили. Потом поехали в Москву, решив там встречаться только "с привилегированным классом". Сейчас она стала равнодушна к путешествиям, признается, что иногда ненавидит красоту. "Все равно я скоро буду лежать в могиле...". "Смерть стоит между мной и миром". "Смерть уже, собственно, началась", "...вихрь песет меня к могиле, и я стараюсь не думать". "Может быть, покончить с собой, чтобы только не ждать?.."
А где же молодые? "Молодые отнимают у меня мир", признается она. Затем перечисляет, чего не будет: nevermore относится к лыжам, ночевкам на сене, любовникам.
Когда я пришла, они кончали обедать. Когда я уходила, они все еще сидели. Может быть, они ждали Годо? ("В ожидании Годо", пьеса Беккета, в которой Годо так никогда и не приходит)
Свежий вечер, огни, гудки автомобилей, неоновые миганья, притаившийся под зеленью деревьев Бальзак Родена. Куда, куда я иду? Не все ли равно: раз у меня есть в мире место, не все ли равно, каким путем я дойду, или доеду, или долечу до него? Так или иначе я доберусь до него. Оно меня ждет.
И глядя вперед, и глядя назад, я представила себе то, что меня ждет через две недели: огромный стол у широкого окна, заваленный бумагами, полки книг, отточенные карандаши и тишина. Окно, выходящее на четыре березы, танцующие посреди лужайки, на кусты по краю дороги (скоро они будут золотые, багровые, желтые, пурпурные, алые); пение птиц по утрам. Вечером молчание... И вдруг - шаги и колокольчик. И милые мне молодые, умные лица. Красивые, потому что молодые и умные - всегда красивые. Какое мне дело, что я старею? Лишь бы они оставались молодыми - и они останутся: я не увижу их старыми. Друзья. Книги. Бумаги. Письма со штампами Калифорнии, Австралии, Швеции... Моя жизнь ждет меня там, в университетском городке, спазма счастья перехватывает мне горло. В сумке моей лежат три ключа, я таскаю их с собой по Европе: от дома, где я живу, от кабинета в здании университета, где я работаю, от клетки в библиотеке, где я храню нужные книги. Была такая сказка про коло-дец. Там какую-то роль играл один ключ. А у меня их целых три. В тот колодец однажды упали две лягушки... Впрочем, я что-то путаю. Но три нужные двери ждут меня. Это несомненно.
Я снова буду там, в уютном маленьком доме: работать, думать, жить и радоваться приходу гостей, когда на стол, где горят свечи, плывет из печки жаркое, калифорнийское вино (для меня оно - одно из лучших в мире) льется в стаканы, а пластинка, после тихого шуршанья, начинает Концерт для скрипки, гобоя и струнных или Концерт для флейты, скрипки, клавесина и струнных...
Я иду, иду. Спазма счастья не покидает меня, пока я обхожу Люксембургский сад. Вот здесь когда-то П.П.Муратов уговаривал меня бросить писать по-русски и скорее научиться писать на любом другом языке, потому что... не помню сейчас его доводов, впрочем, о них нетрудно догадаться. Вот здесь я жадно ждала кого-то, с кем потом целовалась под темными деревьями. Жадно ждала. Жадно думала. И теперь жадно собираюсь домой. Это все та же самая моя жадность, какая была во мне тридцать, сорок, пятьдесят лет тому назад. Она не изменилась, не износилась. Она не истрепалась. Она еще в целости, как и я.