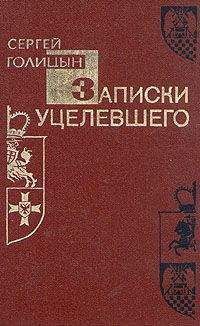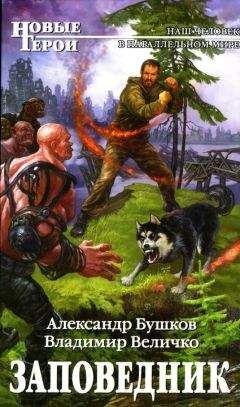Вечером я завалился спать на своем чердаке, ничего не сказав Лебедеву. Внизу послышался голос комсорга. Явно волнуясь, он рассказывал о неудаче опыта с лотком.
— Техник — и не мог рассчитать! — негодовал он. — Ведь это прямое вредительство!
— Подожди, подожди, — успокаивал его Лебедев. — Не сразу изобретение удается. Приедет Мешалкин, и все разъяснится.
Комсорг ушел, а я в ужасе застыл. Ведь и впрямь меня могут счесть за вредителя…
На следующий день мы переправились на ту сторону. Чем занять рабочих? Опять продолжать прокатывать бревна по неподвижным роликам с помощью веревок было бессмысленно. Я послал их в лес заготавливать будущие лежни.
Неожиданно появились Мешалкин с Лебедевым и комсоргом. При них рабочие снова потянули бревна по роликам. Мешалкин приказал протащить еще бревно, другое, третье, потом коротко бросил:
— Строительство закрывается.
Я шепнул Сметанникову, чтобы собирал инструмент, больше сюда не приедем, а сам сел в лодку Лебедева. Он и комсорг молча гребли, Мешалкин и я мрачно молчали. Когда переправились, Мешалкин только мне и сказал, чтобы я подсчитал, во сколько рублей обошлось строительство, и окончательный итог прислал бы ему.
Я его спросил, какую он мне теперь поручит работу. Он отмахнулся, сказал, чтобы я ждал его распоряжений. Конечно, он тяжело переживал неудачу и ему было не до меня.
В бухгалтерии мне вручили подписанные мною наряды. Я защелкал на счетах. Вышло шесть тысяч с чем-то рублей.
"Столько денег ухлопал впустую! Конечно, любой начальник сочтет меня вредителем, — рассуждал я сам с собой, лежа на чердаке. — Мешалкин — молодой специалист, к тому же член партии, его ценят, его уважают. Он отвертится, еще, чего доброго, на меня свалит вину. Приедет следователь ГПУ, начнет меня допрашивать".
И тут-я вспомнил, что на дне моего чемодана спрятаны листки бумаги черновики первых глав моей повести «Подлец». Да ведь при обыске их обнаружат, прочтут, а там Бог знает что наворочено.
Я встал на рассвете, когда все еще спали, спрятал пачку за пазуху, потихоньку спустился с чердака, зашагал в тайгу, выбрал полянку, оглянулся, зажег спичку и уничтожил свое сокровище. Вернулся, вновь залег на чердаке.
Я остро переживал неудачу, и не только из-за угрозы кары. Мое самолюбие было жестоко уязвлено, я понимал: даже если следствие не поднимется, оскандалился на весь леспромхоз. Следующие дни я почти не спускался с чердака, сказавшись больным.
И тут произошел один эпизод, который меня напугал до полусмерти.
Однажды вечером сквозь щели потолочин я услышал оживленный разговор, узнал голос начальника Шодровского участка и понял, что он и Лебедев выпивают. Они разговаривали о том о сем, и вдруг гость спросил о роликовом лотке, хозяин рассказал о неудаче, и тут шодровец сказал:
— Ничего нет удивительного, что князь Голицын оказался вредителем.
Вообще до сих пор никто меня о моем княжестве не спрашивал. Моя фамилия была достаточно известна в бывшей помещичьей европейской России, там я не мог скрывать, кем был в годы своего раннего детства. А в Сибири о помещиках никогда не слыхивали, тут даже слово «барин» было неизвестно. Лебедев спросил шодровского начальника:
— Что же он, татарин, что ли?
— Сказал, татарин! — отвечал тот. — Он царский родственник.
Наверное, Лебедев ничего не понял. Они чокнулись и перешли на другую тему беседы.
"Вот как, царский родственник!" — говорил я самому себе холодея от ужаса. Никогда, ни в прошлом, ни в будущем, никто не обвинял меня в подобном "преступлении".[40] Черт знает что!
Наверное, в тот вечер оба начальника сильно подвыпили, и Лебедев позабыл о том разговоре. Не видя меня в течение нескольких дней, он забеспокоился, поднялся на чердак, похлопал меня по плечу, сказал, чтобы я не шибко переживал, и прислал фельдшера. Тот подтвердил мои хвори.
Мне думается, что для Лебедева недавнее разоблачение профорга Кузьмина было более волнующим происшествием, нежели неудача роликового лотка. Да и привыкли в нашей стране, что деньги улетают в трубу. Уплыли же в океан сотни тысяч кубометров заготовленного леса…
Неожиданно нагрянула еще более страшная беда, все позабыли думать и об уплывшем лесе, и о роликовом лотке, и о бедняге Кузьмине.
В свое время лошади остались без овса, подросла травка на пойменных лугах, и они стали поправляться. А вот что произошло. Посланные за мукой вернулись на пустых лодках. Им сказали — муки нет и в ближайшее время не ждите. Так все вольнонаемные, все спецпереселенцы и мы, начальство, остались без хлеба. В столовке варили баланду из селедочных голов и из щавеля.
Все работы встали. Никто не вышел с топорами и пилами. И никто не уговаривал и не заставлял идти. Вдоль берега Мрас-су расставились с удочками мальчишки и взрослые — мужчины, женщины, даже старухи. Попадалось ли им что — не знаю. Другие голодающие ходили в тайгу, там на полянках, на вырубках рвали колбу — род дикого чеснока с мягким и терпким стеблем, с маленькой луковкой, выкапывали еще какие-то растения с мелкими мучнистыми клубеньками на корнях, варили крапивные и щавелевые щи. И я ходил в тайгу пастись.
Мне пришла посылка из Москвы — две черно-золотые баночки торгсиновских шпрот. Я их съел втихомолку и тут же написал письмо. "Пожалуйста, пришлите сухари". Но столь красноречивое мое послание родители не получили. Второй посылки я не дождался. Они даже не подозревали о моем состоянии, видно, письмо было прочитано на почте, сочтено предосудительным и брошено в печку.
В столовой не кормили даже баландой. Жена Лебедева и жена Маслова что-то варили из своих личных запасов. Один день и другой я ничего не ел, на третий спустился с чердака и увидел девочку Лебедевых. Она сидела за столом и сосала пышку. Раньше я с ней иногда играл. Она доверчиво села ко мне на колени, и я ей стал рисовать на куске обоев, сумел ее увлечь, и она отложила пышку. Я цоп — и спрятал вожделенную добычу в карман. Не сразу спустил девочку на пол и съел смешанную с ее соплями добычу. "Девочка — дочка начальника", — оправдывал я свой поступок…
Я продолжал голодать, все лежал на чердаке, спускался лишь за нуждой и тогда жадно пил воду. Меня охватила полная апатия. Я лежал, равнодушный ко всему на свете, думал и не думал… Теперь я понимаю, что у меня началась дистрофия, та самая, которая погубила десятки миллионов заключенных.
Всех вольнонаемных Мзасского лесоучастка отправили на зачистку речных берегов от застрявших по отмелям бревен. Их там кормили. А спецпереселенцев просто бросили на произвол судьбы. Каждый день умирали дети, умирали старики, умирали они сами. Каждый день на лодках переправляли мертвых через реку на кладбище.