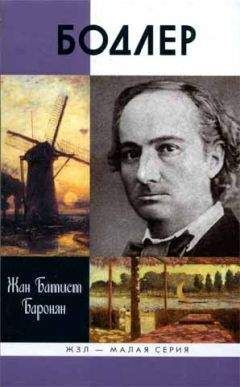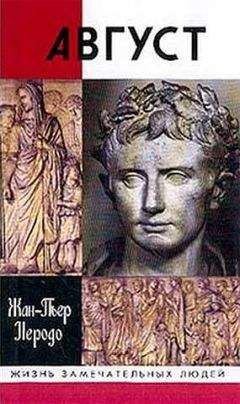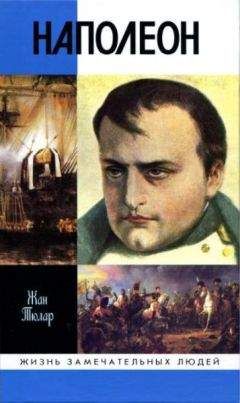Скептицизм его окружения был осязаем, но никто не смел возражать Гитлеру. Кроме генерала Коллера. Но тот лишь вызвал гнев фюрера. «Люфтваффе – это сборище толстяков, лентяев, трусов! – кричал Гитлер. – Ни один из генералов авиации не едет на фронт… Галланд – театральный актеришка, а все остальные – обманщики… Книпфер, инспектор гражданской ПВО, просто свинья… В конце концов следует расстрелять нескольких человек из люфтваффе, и тогда все изменится!»
Все это, очевидно, должно было дойти до ушей Геринга, который в то время готовился покинуть Каринхалл. Три состава, полностью заполненные произведениями искусства, уже выехали в Берхтесгаден, но в имении еще оставалось много мебели, скульптур и ковров. Часть их была погружена в кузова грузовиков, составивших целую колонну, а остальные оставлены в имении или зарыты в окрестных полях и лесах. Вечером 19 апреля Геринг упаковал свои чемоданы и велел погрузить их на три грузовика. Он также закрыл все свои счета в банке Берлина и перевел полмиллиона марок на свои личные счета в банк «Байерише хипотекен» и в «Торговый банк» Берхтесгадена. Он и так уже пребывал в удрученном состоянии из-за того, что Германия потерпела поражение, а тут еще приходилось чего-то лишаться! Рано утром 20 апреля, побывав в мавзолее Карин на берегу озера, Герман Геринг навсегда покинул дорогое его сердцу имение. По его указанию отряд парашютистов заложил мины в фундаменты всех зданий. Один из членов подрывной команды позже рассказал: «Мы заложили более 40 тонн взрывчатки в этом комплексе, а управляющий Шульц постоянно твердил нам быть аккуратнее, чтобы ничего не повредить, потому что могла последовать отмена приказа. […] Вид всех собранных там сокровищ поражал. При всем том, что из Каринхалла заранее все увезли, оставив лишь небольшую часть вещей». Команда парашютистов взорвала Каринхалл спустя восемь дней, когда заметила первых разведчиков Красной армии…[614]
В течение двенадцати лет 20 апреля в Третьем рейхе праздновался день рождения Гитлера; утром этого дня все нацистские бонзы и иностранные дипломаты приходили в рейхсканцелярию, чтобы лично поздравить фюрера. Но утром 20 апреля 1945 года все поздравления были явно неуместными, так что обычные участники оперативных совещаний, Кейтель, Йодль, Геринг, Гиммлер, Дёниц, Шпеер, Кребс, Бургдорф, Кальтенбруннер, Риббентроп, Коллер и фон Белов, явились в рейхсканцелярию после полудня, то есть как обычно. Адъютант Дёница Вальтер Людде-Нойрат вспоминал, что Гитлер выглядел «разбитым, отекшим, сгорбленным, изможденным и нервным». Альберт Шпеер впоследствии написал: «Никто не знал, что и сказать. Гитлер принял наши поздравления холодно, даже с некоторым недовольством, учитывая сложившиеся обстоятельства».
А обстоятельства действительно были довольно мрачными: ежедневно подвергавшуюся бомбардировкам самолетами «Москито» и Б-17 столицу Германии теперь периодически обстреливала советская дальнобойная артиллерия. На севере страны британцы приближались к Бремену и Эмдену. На юге американцы недавно овладели Нюрнбергом. Французы уже стояли в пригородах Штутгарта, а русские вошли в Вену. В центре 9-я армия генерала Буссе беспорядочно отходила от Одера между Франкфуртом и Кюстрином. А юго-восточнее Берлина советские войска обошли Люббен и продолжили наступление в направлении Ютербога на западе и Потсдама на северо-западе. Именно это беспокоило генерала Коллера, который записал в своем дневнике: «Последний путь на юг может быть отрезан. Поэтому, до того как начался спектакль с поздравлениями по случаю дня рождения, я предупредил Геринга, Кейтеля и Йодля о том, что можно упустить последнюю возможностью отправиться на юг наземным маршрутом и что, принимая во внимание воздушную обстановку и отсутствие горючего, я исключаю всякую возможность последующей эвакуации воздушным путем. […] Все со мной согласились, но Гитлер еще не принял решения. В конце концов, перед самым началом оперативного совещания Кейтель сообщил мне, что Гитлер принял решение остаться в Берлине до самого конца».
Все было ясно… «Через некоторое время все мы собрались, как обычно, возле оперативной карты в душном помещении бункера, – вспоминал Шпеер. – Гитлер встал напротив Геринга. Тот, всегда щепетильно относившийся к своим нарядам, недавно стал носить необычную форму. Мы с удивлением увидели, что серебристо-серая ткань уступила место оливковой, как у американцев. Кроме того, вместо шитых золотом погонов шириной пять сантиметров на мундире были простые полоски ткани со знаками различия и позолоченным орлом рейхсмаршала. “Он похож на американского генерала”, – шепнул мне кто-то из присутствующих. Но Гитлер, казалось, не заметил и этой перемены. Обсуждение коснулось скорого наступления на центр Берлина. Прошлой ночью поднимался вопрос о том, чтобы отказаться от обороны столицы и укрыться в Альпийском редуте[615]. Но Гитлер только что решил, что он продолжит битву за город на улицах Берлина. И тогда все начали говорить, что ставку следует непременно перенести в Оберзальцберг, и что для этого остался последний шанс. Геринг сказал, что к лесам Баварии мы могли долететь только по одному маршруту, с севера на юг, и что последний путь на Берхтесгаден в любой момент может оказаться перерезанным. Гитлер возмущенно сказал: “Разве я могу приказать войскам дать решительный бой за Берлин, если сам буду в безопасности?” У сидевшего напротив него Геринга расширились глаза, он побледнел и вспотел в своем новом мундире, а Гитлер добавил в свойственной ему риторической манере: “Судьбе решать, погибну ли я в столице, или в самый последний момент улечу в Оберзальцберг». Когда совещание закончилось и генералы ушли, удрученный Геринг повернулся к Гитлеру”».
Для того чтобы снова поставить вопрос о переводе руководителей рейха в Оберзальцберг, рейхсмаршал, явно торопившийся уехать в Берхтесгаден к семье и своим сокровищам, сказал, что просто необходимо, чтобы один из руководителей люфтваффе немедленно отправился на юг, потому что сложившаяся там обстановка требует единого командования люфтваффе. У Гитлера задрожала левая рука, он ответил: «Что ж, езжайте. Здесь останется Коллер!» Шпеер, наблюдавший за этой сценой издали, впоследствии написал: «Гитлер посмотрел на Геринга с отсутствующим видом. У меня сложилось впечатление, что его глубоко растрогало собственное решением оставаться в Берлине и рисковать здесь своей жизнью. Произнеся несколько ничего не значащих слов, он пожал руку Герингу. […] Я стоял всего в нескольких шагах от них, и мне казалось, что я стал свидетелем исторической сцены. Руководство рейха разваливалось». Фон Белов, также наблюдавший эту сцену, впоследствии сказал: «Мне показалось, что в глубине души Гитлер уже похоронил Геринга. Это был неприятный момент».