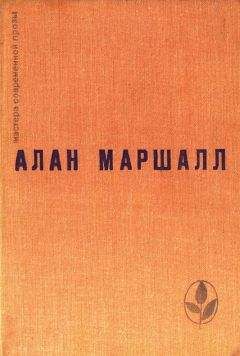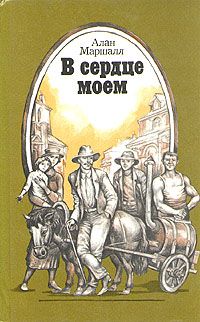все люди, и о трудностях, которые приходится преодолевать всем. Я рассказывал ей о будущих друзьях, о новых встречах, о счастье, которое ее ждет. Говорил о болезнях, конечно, излечимых, и о людях, которых ей следует остерегаться. Я говорил о мужестве, которое она проявит в горе, о ее внимании к другим людям.
Цыган просунул голову в палатку.
— Вы закончили, профессор? — спросил он. — Здесь собралась целая очередь.
Девушка поднялась.
— Не могу понять, откуда вы знаете все это обо мне, — сказала она. — По-моему, вы прямо чудо. Откуда вы узнали, что я поссорилась с матерью?
Я поклонился:
— Я прочитал это на вашей ладони.
Работа хироманта показалась мне очень утомительной, и я был рад, когда наконец наступил вечер. Я прочел сорок с лишним судеб — мужских, женских, детских, — и Цыган был в восторге.
— Давай ездить с нами, — предложил он. — Доходы будем делить пополам.
— Нет. Это не по мне, — ответил я. — Хорошенького понемножку.
Но на самом деле вышло все наоборот. Через несколько недель я вернулся в Мельбурн и вплотную занялся гаданием. Свой заработок я передавал безработным, больницам и в фонд помощи Испании.
Благотворительные комитеты, в пользу которых я выступал, брали на себя заботы о помещении и рекламе. Я стал известен как «Шабака, великий египетский прорицатель»; появлялся в тюрбане, с лицом, намазанным темной краской, и постепенно до такой тонкости овладел своей новой профессией, что предсказания мои производили впечатление даже на друзей.
Однажды моя мать, почти поверившая их россказням, протянула мне свою заскорузлую руку и спросила:
— Скажи, Алан, что ты видишь там?
Я смотрел на ее ладонь, на которой лежала, казалось, вся моя жизнь.
— Себя, — ответил я. — Я вижу себя.
Ремесло предсказателя сталкивало меня с очень многими людьми. Обычно, сев передо мной, они отбрасывали прочь притворство и становились самими собой.
В палатке предсказателя судеб жизнь превращалась в книгу, отдельные главы которой меня просили написать. Для этого требовалось умение истолковать каждый взгляд, жест, каждое слово.
Постепенно я стал сокращать время, уходившее на гадание, и вступать в беседы с посетителями. Проблема, кроющаяся за вопросом, заданным мне, становилась предметом обсуждения; постепенно я понял, что люди получают больше удовлетворения от своей исповеди, чем от моих предсказаний.
Я стал использовать этот прием не только в роли прорицателя, но и находясь среди своих друзей и знакомых девушек. Молодежь испытывала прямо-таки неодолимую потребность поделиться своими сомнениями, переживаниями и трудностями с человеком, который был не только способен выслушать их без предубеждения, но и понять.
Меня они считали именно таким человеком: им казалось, что раз я живу обособленной жизнью и со стороны наблюдаю за ними, значит, понимаю их трудности лучше, чем они сами. Так я оказался причастен к жизни многих людей и постепенно все больше развивал в себе те качества, которые, судя по всему, толкают собеседника на откровенность.
В молодости человек живет тройной жизнью: одна — открытая друзьям, вторая — родителям, кроме того, существует третья, подспудная, — жизнь чувств и поступков, о которых знает лишь он один. Именно в темных глубинах этой подспудной жизни ролсдалась тоска, облегчить которую можно было, только доверившись кому-то.
Одна девушка, которой я помог, сказала мне как-то: «Почему вы не напишете о том, что посоветовали мне? Вы ведь сможете помочь тогда и многим другим».
Так я стал писать статьи на темы, волнующие девушек; статьи эти регулярно, раз в неделю, появлялись в Сиднейском женском журнале. Первое время они печатались под рубрикой «Глазами мужчин», а затем — «Говорит Алан Маршалл»; название сохранялось все пятнадцать лет, пока журнал продолжал печатать эти статьи.
В течение пятнадцати лет я ежедневно получал письма читательниц. Я отвечал на все эти письма, в статьях или личным письмом.
Хейвлок Эллис в своей «Психологии пола» писал:
«Сейчас уже признано, как пагубно влияние невежественных, безответственных и легкомысленных родителей. Даже самые лучшие родители часто, под влиянием настроения, бросаются от неразумной суровости к столь же неразумной снисходительности; это вызывает у детей сугубо критическое к ним отношение, так как дети постоянно и крайне придирчиво судят своих родителей, детский эгоизм требует, чтобы именно их родители были образцами совершенства».
Подтверждение правильности этой мысли я постоянно находил в письмах, которые получал. Во многих семьях родители воспитывали детей, тщательно оберегая их от встречи с реальностью, лепя их сознание по собственному образцу, внушая им преклонение перед идеалами, которым поклонялись сами, направляя их по пути, с их родительской точки зрения, наиболее достойному.
В других семьях родители вообще не интересовались внутренним миром своих детей и ограничивались исключительно поверхностным общением.
Иные родители, решившись объяснить детям физиологию пола, считали свою задачу выполненной и тем ограничивались.
Встречались и такие семьи, где дети были брошены на произвол судьбы и вынуждены были сами ощупью находить дорогу в мир.
А там, в этом мире, гудели горны, взлетали кверху огромные молоты, готовые проверить на прочность результат родительского воспитания. На этот грозный испытательный полигон и попадали слабые девушки. Им предстояло пройти закалку среди гама и песен, смеха и объятий, криков о помощи, растерянности, благородства, бескорыстного участия и сочувственных речей.
И от девушек, дрогнувших под ударами, к которым они не были подготовлены, шли ко мне письма.
«Когда я начала встречаться с молодыми людьми, мне все было ясно, я знала точно, что можно и чего нельзя. Потом выяснилось, что существует много полудозволенных поступков (которые, к сожалению, доставляют мне удовольствие), и надо только уметь вовремя остановиться».
«Понимаете, я просто не знаю, как мне вести себя. Если в театре мы сидим три часа подряд, взявшись за руки, мне начинает хотеться поцелуев… хочется, чтоб меня обняли… Мама была бы в ужасе, узнав это».
«…и почти все молодые люди ведут себя так. Следует ли уступать им? Я пишу вам вовсе не потому, что у меня испорченное воображение, мне действительно нужна помощь. Видите ли, трудно принимать решение, когда знаешь, что потеряешь его дружбу, если не уступишь. Ведь если им отказываешь, они не хотят больше с тобой встречаться. С мамой я не могу говорить о таких вещах, потому и пишу вам».
«…Я пошла в школу шести лет, но из-за высокого роста мне можно было дать двенадцать. В начале года я сильно болела, и когда мама привела меня в класс, она сказала учительнице, что я «отстала». Тогда учительница посадила меня туда, где, по ее мнению, мне следовало сидеть — рядом с тремя слабоумными учениками, одинакового со мной