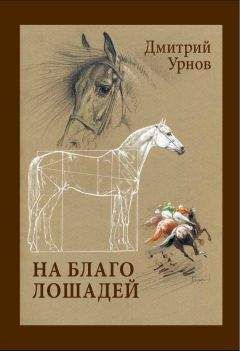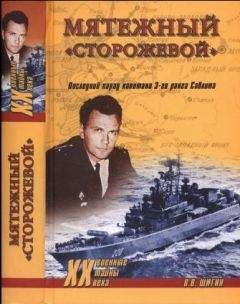Граница от Липицы – рукой подать. Даже две границы – хочешь австрийская, хочешь – итальянская, а есть еще и третья – где Триест, и если, следуя Вебстеру, привстать на стременах, то можно видеть в самом деле далеко, обозревая три страны сразу, а теперь, пожалуй, и четыре, поскольку Словения отделилась от Сербии и стала самостоятельной державой: балканизация, участь уготовленная и нам. А что такого? Идет история – раньше мы думали, идет она только в книгах и всякие там великие переселения народов, подъем и падение империй – это все для зачетов и экзаменов, а в сущности нам до этого дела нет. И вдруг у нас – что? Реставрация. Власть берут компрадоры. А мы-то думали (хотя нас иначе учили, пытались учить) все это досужие, отжившие свое слова, слова, их приходится к экзамену заучить и запомнить, однако на другой день можно забыть и выбросить из головы. Кто мог подумать, что слова эти обретут для нас смысл? И до чего злободневный! Оказалось, что история не просто продолжала идти, а, как выразился в свое время переживший то же самое Герцен, проехала по нам колесом.
Поднялись мы в горы – в Липицу. Чтобы поездить, я выбрал маэстозо, потому что лошади этой линии самые крупные из липизанов. Родоначальник линии, жеребец-андалуз, так и звался Маэстозо, серый, а был еще родоначальником той же линии и красно-чалый Фавор. Неаполитанцы, тоже пара, темно – и светло-гнедой, дали начало линии, соответственно, неаполитанской. Третья ведется от жеребца, близкого по крови к ольденбуржцам, и, наконец, сыграл свою роль араб из гнезда сиглави. Итого, шесть прародителей – шесть линий, но самая представительная – маэстозо. Венской Школы я не видел, не бывал там (можно было увидеть ту же школу на гастролях, но билеты оказались невероятно дорогие, будто в оперу), однако по книгам судя, образцовая смена, которую водил Подайский, состояла из маэстозо.
Вид у меня, когда взгромоздился я на коня, как я уже сказал, был на редкость не заправский, но Ленарт все же вышел на середину круга и стал нацеливаться на меня объективом. Вдруг на рыси я ощутил тревожную легкость в правом внутреннем кармане пиджака. Сунул руку – нет ни бумажника, ни документов. Паспорт! Положим, нас не инструктировали, но что такое наш человек без серпастого и молоткастого? Свет померк в моих глазах. Перешел я на шаг и стал копаться памяти, как же могло это все из кармана выскользнуть? Где? Когда? Да, для того, чтобы подтянуть подпруги и отпустить стремена, я снимал пиджак… Что будет? Что будет? Мрачнейшие мысли овладели мной настолько, что я уже ничего и не видел вокруг. В утрате паспорта чувствовалось тоже нечто символическое. Могло ли нечто подобное совершиться раньше? Даже подумать о таком было бы немыслимо! Повод выпал у меня из рук, и прекрасно выезженная лошадь сама продолжала движение по плацу. Ни зеленых горных склонов, сбегающих в Италию, ни гор, встающих на границе с Австрией, ни чудесной серой лошади, на которой я сидел, ничего этого для меня уже не существовало.
Неожиданно, словно сквозь сон, я почувствовал, что движение прекратилось. Мой маэстозо стоял. Перед собой, на уровне холки, у луки седла я увидел герб Советского Союза. Очнулся от кошмара среди бела дня. Рядом с лошадью, взяв левой рукой жеребца за повод, стоял конюх. Правой рукой он протягивал мне документы. Сверху – серпастый паспорт. «Читайте, завидуйте, я гражданин…»
Можете себя представить, что в то мгновение изобразилось на моем лице? И тут щелкнул затвор фотоаппарата.
А про «счастливого человека на лошади» я услышал от Ленарта по телефону, когда звонил ему, чтобы договориться об его участии в Пушкинской конференции. Получилось так: на Ученом Совете американского колледжа, где я преподавал, взял слово профессор-негр, или, как теперь предпочитают говорить, афро-американец, он заявил, что, дескать, до каких пор это будет продолжаться – пренебрежение к великому поэту африканского происхождения? Сознаюсь, я слушал в полслуха, пока до меня не дошло, что речь идет о Пушкине. Тогда мы с этим черным пушкинистом составили единый фронт и пошли ломить стеною. По университетам, где только есть африканские кафедры, разослали письма с предложением принять участие в мероприятии в честь «гениального мулата», а в ответ раздался дружный глас афро-американской профессуры: «Да здравствуют музы! Да скроется тьма!». Подал голос и сын Поля Робсона, Поль Робсон-младший, а его великий отец, как известно, мечтал сыграть Пушкина на сцене или в кино. Словом, началось движение за «нашего Ганнибала!» – как выражались черные американцы.
Идея, увы, не осуществилась, потому что инициатор, мой союзник, совершенно неожиданно и скоропостижно скончался, но я все же успел позвонить Президенту Эстонии, ведь документы Ганнибалов – в Таллине. Ленарт сразу согласился приехать и сделать доклад – это как бы само собой разумелось. Главное же, о чем он говорил, это была наша поездка в Липицу. «Не могу забыть лица счастливого человека, сидящего на лошади», – снова и снова повторял эстонский Президент. Ему, видно, хотелось поговорить именно о том, о чем он говорил – о поездке к липицианам. Ведь от повседневных тягостных забот ничто не отвлекает так, как разговор о лошадях.
Великосветский визит, или Волшебное лошадиное слово
«Если с каждым обращаться, как он того заслуживает, то кто бы избежал розог?»
«Гамлет», пер. К. Р.
– Ее Императорское Высочество никого не принимает.
– Скажите Великой Княгине, что я знал наездника, который ездил на лошадях ее брата.
Двери великокняжеского покоя распахнулись.
Дело происходило в Толстовском Институте при Толстовском фонде на Толстовской ферме – это учреждение и даже целое хозяйство, неподалеку от Нью-Йорка, было основано и возглавлено дочерью писателя Татьяной при поддержке ЦРУ. Есть на той же ферме и пансионат для престарелых эмигрантов, поэтому, среди прочих примечательных особенностей, звучит там русская речь, которая режет слух своей негромкостью и мягкостью. Наши соотечественники, доживающие здесь свой век, кажется, не говорят, а всего лишь вкрадчиво произносят слова, ненастойчиво настолько, что можно их и не слушать, а так, что ни скажут, пропускать мимо ушей. «Вишневый сад» да и только!
Сорок лет тому назад, когда вместе с доктором Шашириным мы привезли в Америку тройку, нами была предпринята попытка встретиться с Татьяной Львовной. У меня к ней и рекомендация была – от супруги моего старшего друга и наставника, наездника Щельцына. Социально совсем не ровня мужу, Екатерина Всеволодовна была женой декабристского склада. Внучка Саввы Мамонтова, дочь Всеволода Саввича, ставшего после революции авторитетным судьей по собакам, однако, разошедшегося, что касается лошадей, с Бутовичем, она последовала за мужем в ссылку, а когда его на склоне лет уходили на пенсию (какой наездник слезет с качалки сам, по собственной воле?), утешила: «Ты же счастливый человек, у тебя все впереди, – сказала она безутешному мужу, – ты «Анны Карениной» еще не читал!»