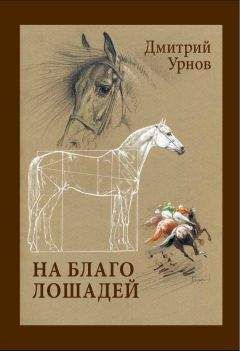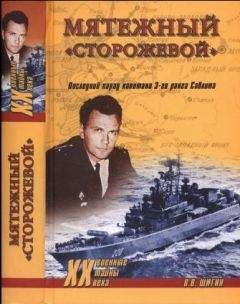С Татьяной Львовной они были знакомы с давних пор, с молодости, и когда перед отъездом с тройкой за океан я сказал ей о своем намерении повидаться с дочерью Толстого, Екатерина Всеволодовна не только ее живо вспомнила, но даже изобразила ее манеру говорить и действовать – грубовато-решительно, как бы подготавливая меня к встрече, если таковая все же состоится… Но у нас с доктором, как только пересекли мы американскую границу, пролегла поначалу короткая полоса неудач: табличка «Не работает» висела на первом же механизме – питейном аппарате – который мы увидели на американской земле, не работал лифт в гостинице, сломался школьный магнитофон, когда меня попросили записать эту историю на пленку, и тут же перестали «работать» американские преподаватели, собравшиеся меня послушать, – они умерли со смеху. Наконец, не «работала» и графиня – сломала бедро. «Ну, будем ей звонить?», – спросил Николай Николаевич Мартьянов, книготорговец, который был с ней знаком. Звонить надо было на эту самую ферму и получилось бы навязчиво, тем более что особых вопросов у меня к владелице фермы и главе фонда не было. Стоило ли рисковать? По тем временам подобные контакты не поощрялись. А когда я наконец оказался в Загородной Лощине, где находится все это, освященное именем Толстого, предприятие, то времена были совсем другие, но властной основательницы-хозяйки уже не было на свете.
Попал я в Толстовский Институт, как попадал вообще во множество мест, чтобы выступить с лекцией. Тема была «Русская литература и основные черты русской культуры», аудитория – со стороны, не обитатели фермы, человек двести. Тогда в США кого угодно могло привлечь любое выступление, если только в названии стояло что-нибудь «русское». Американцы еще интересовались нами, желая понять, как это вдруг, вроде бы сам собой, перестал существовать их опасный соперник. Что собственно произошло? «Это была операция ЦРУ», – сказал не я, а мне сказали мои слушатели. Что ж, об этом пусть скажет ЦРУ, как уже говорили от лица этого ведомства о своем участии в политике других стран, я же могу сказать лишь о том, что касалось меня, а я с 1970-х годов был вовлечен в двусторонний, советско-американский, научный обмен. Литературная критика, лирика и физика – все, что касалось нас, с американской стороны субсидировалось согласно Оборонному Акту по Образованию, принятому Конгрессом США после напугавшего их полета нашего спутника. Образование ради обороны, поэтому любое культурное мероприятие было актом холодной войны и соответственно оплачивалось у американцев из военных источников. Одна из литературных конференций, в которой мы участвовали, «спонсировалась» Военно-воздушными Силами США. Набоковский перевод «Евгения Онегина» был издан и премирован на деньги крупнейшей военно-химической корпорации. Проекты по Толстому или Марку Твену с американской стороны осуществлялись наряду с такой затеей, как звездные войны, согласно все тому же оборонному постановлению, но мы, литераторы, этого как бы не замечали. Если бы мы, вернувшись домой с очередной двусторонней встречи, сообщили о том куда следует, это, как выразился мой начальник, «бросило бы нас в объятия КГБ». Рассуждал он так: сказали бы нам «спасибо» и сделались бы мы литературоведами «в штатском», а нас и так американцы считали клевретами органов и пешками партии. Когда же начальство приняло решение сообщить, что́ же в сущности такое наши мероприятия по литературоведению, в это время холодная война как раз закончилась – нашим поражением.
На Толстовскую ферму я приехал накануне, за день перед лекцией, и мне отвели комнату, чтобы переночевать. В комнате была батарея центрального отопления, а под ней стояла стеклянная банка: туда капала вода из подтекавшей трубы. Я сразу почувствовал себя как дома. На другой день после лекции состоялся упомянутый разговор с организаторами мероприятия, и что-нибудь через полчаса я был представлен кровной родственнице императорской четы, троюродной сестре Николая II, почти на сорок лет последнего царя моложе, Вере Константиновне Романовой.
В то время мы с женой составляли обзор для американского академического Шекспира – «Гамлет» в России» – и среди других материалов пользовались изданием знаменитой трагедии, которое подготовил ее отец, переводчик и поэт, Великий Князь Константин, печатавшийся под литерами К. Р. Заговорить ли с ней о Гамлете? Но двери небольшой светлой комнаты распахнулись передо мной благодаря волшебному лошадиному слову – ссылкой на мое знакомство с наездником, который ездил на рысаках, принадлежавших ее брату, коннозаводчику и спортсмену-конкуристу, Димитрию Константиновичу.
Перед моим умственным взором пронесся в качалке старик Стасенко, картуз и рукава черные (потом эти цвета перешли к наезднику Тарасову, а от него к его сыну, тоже наезднику, моему сверстнику). Встали перед очами моей души и фотографии из журнала «Русский спорт»: тот же Стасенко, только помоложе, на Рыбачьем выигрывает крупный приз. Говорил я однажды с его современником-соперником Ляпуновым, сбежавшим за границу с владелицей лошадей, на которых он выступал, но потом вернувшимся. А знал ли я самого Стасенко или же только видел?
Устами Гека Финна, моего любимого литературного героя, Марк Твен признает, что нет человека, который бы не привирал, но не успел я ответить самому себе, знал ли я достаточно Стасенко, чтобы говорить о нем, как вдруг раздалось, нет, прозвучало, словно старинные часы сыграли менуэт: «Ведь его расстреляли». Кого? Моя вельможная собеседница, быть может, путает Стасенко с Беляевым, погибшим от рук фашистов?
«Расстреляли» произнесла едва слышно пожилая фарфоровая куколка, и до меня, наконец, дошло, что это упрек. В ответ на мой козырной ход – с лошадей и наездника – мне указывали на мое легкомыслие и бестактность: упомянутый мною великокняжеский брат, упомянутый так, между прочим, погиб от рук той власти, которой я служил. Я расслышал бы упрек раньше, если бы на меня закричали, если бы со мной говорили, как я говорю, как со мной говорят, как мы друг с другом говорим, во весь голос, словно стараясь схватить собеседника за грудки, а то и за горло, чтобы слушал и не рыпался. Тут я осознал: передо мной была белая кость, порода. О, до чего же она тонка – игрушечна!
Всплыла в памяти и еще одна фотография из того же «Русского спорта»: наши конники на Олимпийских играх 1912 года в Стокгольме. Идут на рысях перед трибунами, впереди, возглавляя команду, брат моей собеседницы, в офицерской форме, рука – под козырек, а на лице улыбка, которую, если озвучить, перевести в звук, то получилось бы, я думаю, нечто вроде того же мелодичного возгласа, который я только что услышал, только вместо «расстреляли» прозвучало бы «проиграли».