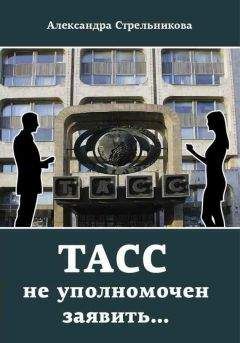«Курсант Литвяк, два шага вперед!» — скомандовала Раскова. Только теперь собравшиеся на построение сто с лишним курсантов истребительного полка — летчики, техники, вооруженцы — заметили, что на зимнем комбинезоне Лили Литвяк появился пушистый белый воротник. Накануне все получили зимнее обмундирование, в том числе теплые комбинезоны с некрасивыми коричневыми воротниками из цигейки. Лиля Литвяк, недовольная видом комбинезона, придумала выход: отпорола пушистый белый мех от «унтят» — меховых чулок, которые вкладывали в унты, и пришила его на комбинезон. Она очень любила белый цвет, и он ей был к лицу.
То, что военную форму перешивать не разрешается, ей не пришло в голову. Дома, когда ей в руки попадало не совсем подходившее платье, она садилась за любимую швейную машинку и моментально перешивала его. Мама, до революции бывшая мастером по шляпам, возможно, даже владелицей шляпной мастерской, прекрасно шила. Лиля научилась у нее шитью и унаследовала редкий талант из ничего создать красивый наряд. После ухода отца они жили очень бедно, мама билась как рыба об лед, но на Лилиных платьях всегда были банты, на пальто — большие меховые воротники. Красивые шарфики она себе делала сама. Девчонки во дворе ей завидовали: Лилька Литвяк была одета лучше всех.
Большинство Лилиных ровесниц в тридцатых годах были одеты очень бедно. Когда они были маленькие, в стране царил НЭП, все можно было купить, были бы деньги. Но в конце двадцатых годов, когда большевики приняли новый курс форсированного построения социализма, повседневная жизнь снова стала такой же «чрезвычайной», как в годы ленинского «военного коммунизма». Промышленные товары теперь выдавали населению по карточкам, но все равно, чтобы их получить, требовалось отстоять в бесконечных очередях. «В очереди становились с ночи. В очередях стояли семьями, сменяя друг друга» (Д. Гранин). Население страны, включая москвичей с ленинградцами, снова погрузилось в эпоху «оборванства и нищенства». Как вспоминала Лилина ровесница, все ее одноклассники «ходили в синих сатиновых халатах… Редко кто из ребят имел красивое шерстяное платье, или теплый свитер, или рейтузы. Одевались очень плохо, особенно в 1929–1933 гг. На ногах резиновые тапки или парусиновые баретки на резиновой подошве, руки вечно красные, мерзли без варежек. Какие у нас были пальто, уж не помню, но точно, что не купленные в магазине, а перешитые из какого-нибудь старья».[112] Единственная пара белья стала типичным явлением. Покупка пары галош, стоивших 15 рублей, в тридцатых годах пробивала огромную брешь в семейном бюджете.
В конце тридцатых ситуация начала меняться: появились модные журналы, а граждан стали даже поощрять одеваться хорошо. В моду вошли крепдешиновые платья и красивые прически. Жены партийных и советских работников уже не носили френчи и красные косынки, а одевались в элитных закрытых магазинах. Остальным женщинам купить красивые наряды было сложнее, да и не на что. Приобретя ткань по ордеру, шили сами. В случае бедных, как у Лили Литвяк, семей, спасали ситуацию только старые запасы: сохранившиеся с лучших времен куски материи, старая одежда, которую волшебные руки могли неузнаваемо переделать. Спасибо золотым рукам мамы и своим собственным: Лиля привыкла щеголять.
Но военные должны быть одеты по форме — по крайней мере, курсанты второго месяца службы. Вызвав Лилю из строя, Раскова поинтересовалась, когда она успела пришить новый воротник, и Литвяк ответила, что ночью. Раскова объявила, что Литвяк отправляется под арест на гауптвахту, где должна будет пришить белый мех назад на «унтята», а цигейку — обратно на комбинезон. Поступок Литвяк многих возмутил. Механик Фаина Плешивцева, высокая спортивная девушка, с осуждением глядя на Лилю, думала: «Как это может быть — идет такая война, а эта девушка, эта блондинка, может думать о такой ерунде, как меховой воротник! Какой же летчик из нее получится?»[113] Для комсорга Нины Ивакиной этот инцидент был очень показателен: то, что с Литвяк нужно работать, она поняла сразу же по приезде в Энгельс. Сначала кто-то рассказал ей о часах налета, которые Литвяк себе приписала. Потом, когда Ивакина начала осторожно наводить справки, оказалось, что некоторые летчицы имеют о Литвяк совсем не лестное мнение. Ивакиной захотелось поподробнее изучить социальное происхождение Литвяк, что не сулило Лиле ничего хорошего. Не составило бы большого труда выяснить, что ее отец репрессирован, но, если это и всплыло, видимо, помогло то, что он бросил семью задолго до своего ареста.
Поступок Литвяк расколол полк: большинство ее осудили, но подруги Литвяк Клава Панкратова и Валя Лисицина возмутили комсорга тем, что не только не остановили Лилю, когда та пришила на комбинезон белый мех, но и «помогали ей и потом весело сопровождали Литвяк в обновленном одеянии на аэродром».[114] А она и после случая с мехом и гауптвахтой продолжала подолгу укладывать перед маленьким зеркальцем светлые (говорили, что она осветляет их перекисью) вьющиеся волосы и ходить в вывернутой мехом наружу летной безрукавке — «самурайке», мех которой, как и внутренность унтят, был белый и очень ей шел.[115]
Галя Докутович таких, как Литвяк, презирала, она была совсем другая. Будущая летчица полка ночных бомбардировщиков Рая Аронова, как и многие, обратила внимание на Галю в первые же дни, заметив «высокую, смуглолицую, с густым румянцем и темными бархатными глазами». Ей сразу подумалось, что эта красивая девушка умна, «только уж очень сдержанная» — такая строгая, что так просто к ней не подойдешь. Галя Докутович считала, что о нарядах и мальчиках можно будет думать только после войны, на которой всю себя нужно отдать борьбе. Те, кто думал так же, как она, еще больше укрепились во мнении, когда личному составу прочитали статью под заголовком «ТАНЯ», опубликованную в «Правде» 27 января 1942 года. История восемнадцатилетней девушки изменила мировоззрение и самоощущение всего военного поколения и многих поколений, пришедших ему на смену.
Сотни тысяч таких же, как Нина Ивакина, юных комсоргов проводили комсомольские собрания, рассказывая о героической смерти комсомолки. «Замечательная девушка-патриотка, героически погибшая за свою родину», — писала о ней Ивакина.
Историю неизвестной девушки, назвавшейся на допросе Таней, корреспондент Лидов услышал от крестьянина в освобожденной деревне Волоколамского района Подмосковья, и немедленно о ней написал. Партизанка «Таня» была схвачена в деревне Петрищево и подверглась пыткам: немцы требовали, чтобы она выдала других участников диверсионной группы и ее руководителей. «Таню» раздели догола и пороли, несколько часов босую и в одном белье водили по морозу, вырвали ногти, но она ни в чем не призналась и никого не выдала. Как писал Лидов, «Таня», когда ее вели на виселицу, призывала собравшихся деревенских бороться и кричала немцам: «Сколько нас ни вешайте, всех не перевешаете!» — слова, которые после статьи Лидова разнеслись по всей стране, став крылатыми. Изуродованный труп девушки несколько недель не снимали с виселицы.
«Таня» стала первой советской девушкой-иконой, святой, на которую идеология требовала равняться. Слушая комсоргов, давая перед товарищами торжественное обещание быть такими же бесстрашными, как «Таня», преданные Родине и коммунистическим идеалам девушки впервые примеряли на себя страшную роль, впервые пытались понять, хватит ли у них сил выдержать пытки и не выдать товарищей, смогут ли они так же, как Таня, грозить немцам перед казнью. Этот вопрос, ответа на который не было, лишал их сна и отравлял жизнь.
Вскоре выяснилось, что Таню на самом деле звали Зоя Космодемьянская, и ей было всего восемнадцать. Лидов написал более подробную статью, к которой были приложены фотографии казни Зои, найденные у убитого немецкого солдата. Все газеты писали об истории Зои, публиковали передовицы, призывающие за нее отомстить. Все знали, какое у нее было лицо: в газетах напечатали довоенный портрет — во всех один и тот же, выбранный Зоиной мамой, школьной учительницей. Все моменты, которые не устраивали пропаганду, были опущены. История была сложная.
Зоя, нервная, романтичная, очень ранимая девушка, в подростковом возрасте из-за конфликта с одноклассниками пролежавшая месяц в клинике нервных заболеваний, была фанатичной комсомолкой. С начала войны ее охватило стремление идти воевать с немцами. Желание осуществилось 31 октября 1941 года, когда в числе других добровольцев Зою приняли в диверсионно-разведывательную группу. Их обучали всего пару дней и 4 ноября уже перебросили в район Волоколамска под Москвой. Они минировали дороги и собирали разведывательные данные, но главная задача была другой. 17 ноября вышел приказ Ставки верховного главнокомандования № 428, предписывавший лишить «германскую армию возможности располагаться в селах и городах, выгнать немецких захватчиков из всех населенных пунктов на холод в поле, выкурить их из всех помещений и теплых убежищ и заставить мерзнуть под открытым небом», с каковой целью было приказано «разрушать и сжигать дотла все населенные пункты в тылу немецких войск на расстоянии 40–60 км в глубину от переднего края и на 20–30 км вправо и влево от дорог».[116] Абсолютная бесчеловечность этого приказа поражает. Зима в тот год была на редкость суровая, с морозами под сорок градусов. Жители прифронтовых деревень, где остались уже лишь старики, женщины и дети, у которых военные, сначала советские, потом немцы, забрали все запасы продовольствия, отобрали лошадей, зарезали коров, съели кур, не оставили даже зерна для посева весной, теперь, в самом начале этой лютой зимы, лишались еще и домов.