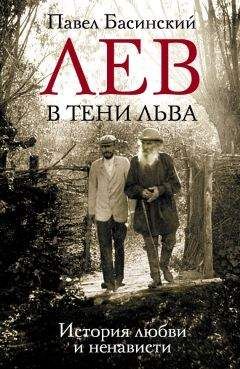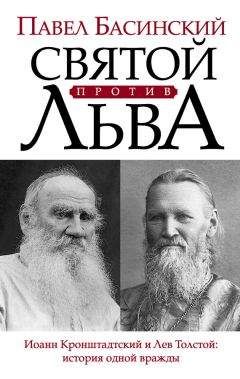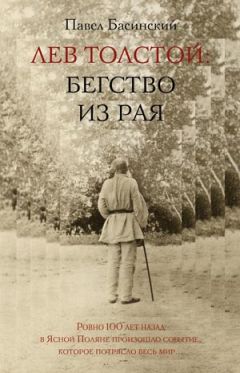от графа Льва Николаевича Толстого
ПРОШЕНИЕ
По расстроенному здоровью и домашним обстоятельствам, не желая более продолжать курса наук в университете, покорнейше прошу Ваше Превосходительство сделать зависящее от вас распоряжение об исключении меня из числа студентов и о выдаче мне всех моих документов.
К сему прошению руку приложил
студент граф Лев Толстой.
Апреля 12-го дня 1847 года.
Перед тем как Толстой уволился из университета, его постигло административное наказание – карцер за прогулы лекций по истории. С этого момента Толстой начинает третировать историю как науку, считая ее собранием нелепых анекдотов о безнравственных людях, которых зачем-то признают великими деятелями и даже святыми. Сидя в карцере со студентом Назарьевым, он вслух издевается над исторической наукой:
– История – это не что иное, как собрание басен и бесполезных мелочей, пересыпанных массой ненужных цифр и собственных имен. Смерть Игоря, змея, ужалившая Олега, – что это, как не сказки, и кому нужно знать, что второй брак Иоанна на дочери Темрюка совершился 21 августа 1563 года, а четвертый, на Анне Алексеевне Колтовской, – в 1572 году, а ведь от меня требуют, чтобы я задолбил всё это, а не знаю, так ставят единицу.
Показательно, что эта обличительная речь, приведенная в воспоминаниях Назарьева и подтвержденная Толстым биографу Бирюкову, произносилась именно в карцере. Начиная с этого эпизода, Толстой будет всякий раз выходить из себя, буквально впадать в бешенство, когда его коснется малейший призрак административного наказания, стеснения личной воли.
Здесь же, в карцере, он ругает и всю университетскую науку:
– Что вынесем мы из университета? Подумайте и отвечайте по совести. Что вынесем мы из этого святилища, возвратившись восвояси, в деревню? На что будем пригодны, кому нужны?
Весна 1847 года – поворотный этап в жизни Толстого. Он начинает дневник, он становится хозяином Ясной и бросает университет. Но главное – это первый опыт его бегства. С бегства он начинает свой сознательный путь в жизнь, бегством его и завершит.
«Лев Николаевич спешил с выездом из Казани, – пишет в воспоминаниях историк русского права Н.П. Загоскин, – и не стал даже дожидаться окончания его братьями Сергеем и Дмитрием выпускных университетских экзаменов. Наступил день отъезда Льва Николаевича в Москву, через которую он должен был ехать в свою Ясную Поляну. В квартиру графов Толстых, во флигеле дома Петонди, собралась небольшая кучка студентов, желавших проводить Льва Николаевича в далекий и трудный, по условиям сообщения того времени, путь… Как водится, за отъезжающего выпили, насказав ему всякого рода пожеланий. Товарищи проводили Льва Николаевича до перевоза через Казанку, которая находилась в полном разливе, и здесь в последний раз отдали ему прощальное целование».
Что-то это всё ужасно напоминает…
Да это же начало повести «Казаки»!
«В одном из окон Шевалье из-под затворенной ставни противузаконно светится огонь. У подъезда стоят карета, сани и извозчики, стеснившись задками. Почтовая тройка стоит тут же. Дворник, закутавшись и съежившись, точно прячется за угол дома…
– Дмитрий Андреич, ямщик ждать не хочет, – сказал вошедший молодой дворовый человек в шубе и обвязанный шарфом. – С двенадцатого часа лошади, а теперь четыре.
Дмитрий Андреич посмотрел на своего Ванюшу. В его обвязанном шарфе, в его валяных сапогах, в его заспанном лице ему послышался голос другой жизни, призывавшей его, – жизни трудов, лишений, деятельности.
– И в самом деле, прощай! – сказал он, ища на себе незастегнутого крючка.
Несмотря на советы дать еще на водку ямщику, он надел шапку и стал посередине комнаты. Они расцеловались раз, два раза, остановились и потом поцеловались третий раз. Тот, который был в полушубке, подошел к столу, выпил стоявший на столе бокал…»
Дмитрий Оленин бежит на Кавказ, запутавшись в долгах и связях с женщинами. Толстой бежал на Кавказ по тем же причинам. Но в идеальной основе лежала, конечно, жажда «жизни трудов, лишений, деятельности», которая гнала Л.Н. сначала из Казани в Ясную. И совсем в сокровенной основе был поиск земли обетованной, «рая», которым представлялись ему Ясная Поляна и неиспорченный цивилизацией Кавказ. До того как бежать на Кавказ, он чуть не сбежал в Сибирь, куда затем последовательно отправлял своих героев: отца Сергия, старца Федора Кузмича, Степана Пелагеюшкина из «Фальшивого купона».
Обозначим пунктиром начало молодости Толстого. Клиника, где он находится с постыдной болезнью и… начинает вести дневник, который станет мировым образцом неустанной работы по нравственному самоусовершенствованию… Карцер, где он сидит за банальные прогулы лекций и… ведет смелые речи об истории человечества… Отказ от учебы в университете и… счастливое принятие на себя ярма помещичьего хозяйства…
Наконец, бегство как путь решения всех проблем.
Совершенно очевидно, что Толстой принадлежал к породе людей, для которых важна не столько свобода, сколько личная воля.
Эти люди готовы брать на себя любые, самые тяжелые обязательства, но только не под давлением извне. Как только давление извне превышает силы и возможности их личной воли, они обращаются в бегство.
Среди самых первых дневниковых записей Толстого 1847 года есть одна очень важная: «Дойду ли я когда-нибудь до того, чтобы не зависеть ни от каких посторонних обстоятельств? По моему мнению, это есть огромное совершенство; ибо в человеке, который не зависит ни от какого постороннего влияния, дух необходимо по своей потребности превзойдет материю, и тогда человек достигнет своего назначения».
Когда первый биограф Толстого П.И. Бирюков спросил о самых ранних впечатлениях его жизни, он вспомнил вот что:
«Вот первые мои воспоминания… Вот они: я связан, мне хочется выпростать руки, и я не могу этого сделать, и я кричу и плачу, и мне самому неприятен мой крик; но я не могу остановиться. Надо мной стоит, нагнувшись, кто-то, я не вспомню кто. И всё это в полутьме. Но я помню, что двое. Крик мой действует на них; они тревожатся от моего крика, но не развязывают меня, чего я хочу, и я кричу еще громче. – Им кажется, что это нужно (т. е. чтоб я был связан), тогда как я знаю, что это не нужно, и хочу доказать им это, и я заливаюсь криком, противным для самого себя, но неудержимым. Я чувствую несправедливость и жестокость не людей, потому что они жалеют меня, но судьбы, и жалость над самим собой».
А вот второе впечатление раннего детства: «посещение какого-то, не знаю, двоюродного брата матери, гусара князя Волконского. Он хотел приласкать меня и посадил на колени, и, как часто это бывает, продолжая разговаривать со старшими, держал меня. Я рвался, но он только крепче придерживал меня. Это продолжалось минуты две. Но это чувство пленения, несвободы, насилия до такой степени возмутило меня, что я вдруг начал рваться, плакать и биться».