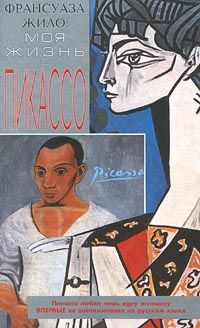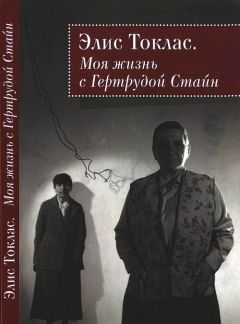Я сказала Пабло, что наверно никто не смог бы писать абстрактные картины лучше него.
— Пожалуй, — ответил он. — В тех многогранных кубистических портретах, которые я начал делать примерно с девятьсот девятого года в белых, серых и охровых тонах, существовали связи с природными формами, хотя на ранних стадиях работы их почти не было. Я дорисовывал их потом. Называю их «атрибутами». В тот период я занимался живописью ради живописи. Это была поистине чистая живопись, композиция делалась как композиция. И лишь к завершению работы над портретом я привносил атрибуты. Просто наносил в какой-то момент три-четыре черных мазка, а то, что находилось вокруг этих мазков, превращалось в облачение.
Пожалуй, я использую слово «атрибут» в том смысле, какой подходит скорее писателю нежели художнику; то есть, в котором говорят о фразе с подлежащим, глаголом и атрибутом. Атрибут — это прилагательное. Оно определяет подлежащее. Но глагол, с подлежащим и составляют, в сущности, всю картину. Атрибуты у меня являлись немногочисленными ссылками, предназначенными вернуть зрителя к видимой реальности, которые узнает каждый. И скрывали за собой чистую живопись. Я никогда не верил в искусство для «избранных». Всегда считал, что картина должна пробуждать что-то даже в душе того, кто обычно не смотрит картин. Так в комедиях Мольера есть нечто, вызывающее смех и у очень умного человека, и у того, кто ничего не смыслит. В произведениях Шекспира тоже. И в моих работах, как и у Шекспира, часто встречаются пародийные и сравнительно вульгарные детали. Таким образом, я произвожу впечатление на всех. Я вовсе не хочу заискивать перед публикой, но стремлюсь представить что-то для каждого уровня мышления.
Однако вернемся к атрибутам: видела ты мой кубистский портрет Канвейлера?
Я ответила — да, правда, в репродукции.
— Отлично, — сказал Пабло. — Поначалу он выглядел так, словно вот-вот исчезнет в дыму. Но если я пишу дым, то добиваюсь, чтобы зритель мог пронизать его взглядом. Поэтому добавил атрибуты — еле видные глаза, вьющиеся волосы, мочку уха, сложенные руки — и теперь зрителю это не составляет труда. Видишь ли, я тогда сознавал — то, что хочу сказать в тех портретах, трудно для понимания. Тут как с Гегелем. Гегель очень интересный человек, но мало кто готов взять на себя труд прочесть его. Он существует лишь для тех немногих, кто стремится взять на себя этот труд, поискать содержащуюся в его работах пищу для ума. Если собираешься дать подобную пищу в живописи, которую большинству людей усвоить нелегко из-за отсутствия органов для ее усвоения, то нужны какие-то уловки. Это напоминает долгое, трудное объяснение малышу: ты прибавляешь какие-то легко понятные ему подробности, чтобы поддерживать его интерес и вести к более сложным вещам.
Подавляющее большинство людей лишено способности творить, изобретать. По словам Гегеля, знать они могут только то, что уже знают. Как же учить их чему-то новому? Нужно смешивать известное им с неизвестным. Тогда, смутно завидя в собственном тумане нечто знакомое, они думают: «Ага, вот это я узнаю». Отсюда всего один шаг до «Ага, я узнаю всю вещь целиком». Затем их разум устремляется к неизвестному, они начинают познавать то, чего до сих пор не знали, и развивать свои умственные способности.
— Мне это кажется очень разумным, — сказала я.
— Еще бы, — ответил Пабло. — Это чистейший Гегель.
Я сказала, что его ссылки на Гегеля очень впечатляющи, и спросила, много ли он читал этого философа.
— Ничего не читал. Я уже говорил, что большинство людей не готово взять на себя этот труд. В их числе и я. Сведения по данной теме у меня от Канвейлера. Однако я постоянно отклоняюсь от своих атрибутов. Тебе надлежит понять, что если бы атрибуты — в более общем смысле, предметы — являлись главной целью моей живописи, я бы выбирал их с особым старанием. К примеру, у Матисса предмет играет основную роль. Но далеко не каждый удостаивается чести попасть на его картину. Ему нужны вещи совершенно исключительные по своему характеру. На моих картинах совсем не так. Предметы у меня самые обыкновенные: кувшин, кружка пива, курительная трубка, пачка табака, тарелка, кухонный стул с тростниковым сиденьем, самый обыденный стол. Я не сбиваюсь с ног, ища какую-нибудь неслыханную редкость вроде матиссовского венецианского кресла в форме устрицы, чтобы затем преобразить ее. В этом нет смысла. Я стремлюсь сказать что-то с помощью самой обыкновенной вещи, например, кастрюльки, ничем не примечательной, знакомой всем. Для меня это сосуд в переносном смысле, какой вкладывает в свои притчи Христос. У Него есть мысль; Он выражает ее иносказательно, чтобы она стала доступна как можно большему количеству людей. Таким же образом я использую предметы. Например, ни за что не стану писать кресло в стиле Людовика Пятнадцатого. Это вещь обособленная, существующая для некоторых, но не для всех. Я обращаюсь к предметам, которые принадлежат всем, по крайней мере, теоретически. Как бы то ни было, свои мысли я воплощаю в них. Это мои притчи.
Я сказала, что по линии святости он прогрессирует: сперва Гегель, затем Христос. Кто следующий?
Пабло на минуту задумался.
— Не знаю, — ответил он. — Возможно, Аристотель. Во всяком случае, тот, кто предположительно сможет вернуть живопись на путь истинный.
Я спросила, когда живопись сбилась с этого пути.
— Это долгая история, — заговорил Пабло, — но ты хорошая слушательница, так что объясню. Придется вернуться к древним грекам и египтянам. Сегодня, к сожалению, у нас нет порядка или канона, по которому все художественное творчество подчиняется правилам. У них — греков, египтян, римлян — такой канон существовал. Уклониться от него было невозможно, поскольку так называемая красота, по определению, заключалась в этих правилах. Но едва искусство утратило все связи с традицией, и пришедшее с импрессионизмом своего рода освобождение позволило художнику делать все, что заблагорассудится, живописи пришел конец. Когда решили, что главное — ощущения и эмоции художника, что каждый может обновлять живопись как ему вздумается, на любой основе, она перестала существовать; остались только индивидуальности. Скульптура умерла той же смертью.
Начиная с Ван Гога, мы, какими бы великими ни были, в определенной степени самоучки — едва ли не первобытные художники. Художник больше не живет в рамках традиции, и каждому из нас приходится заново создавать весь язык искусства. Каждый современный художник имеет полное право создавать собственный язык от А до Я. Никакие критерии не применимы к нему, так как мы не признаем больше неукоснительных норм. В определенном смысле это освобождение, но вместе с тем и суровое ограничение, потому что когда начинает выражаться индивидуальность художника, обретения по части свободы оборачиваются утратами по части порядка, а если ты больше не можешь быть в ладах с каким-то порядком, то это, в сущности, очень скверно.