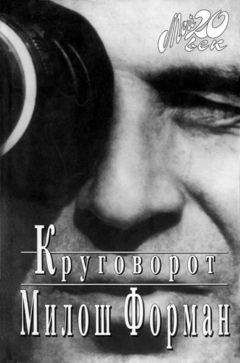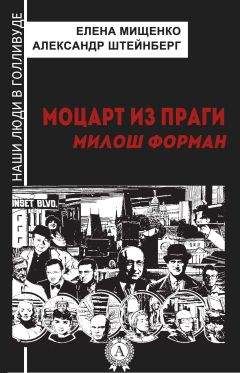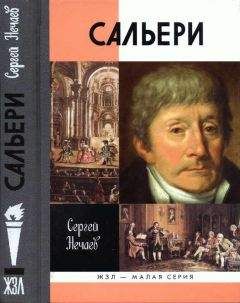В пражском зоопарке содержалось целое стадо верблюдов, n все они были похожи друг на друга, так что я сел в автобус и поехал обратно в центр города, где и пустился на поиски кафе «Манес». Найти его не представляло труда. Великолепное заведение на берегу Влтавы выглядело современным и чистым. Там были хорошенькие официантки, дамы в мехах, маленькие девочки в белых носочках и цветы на мраморных столиках; действительно, это было шикарное кафе. Мне хватило денег, чтобы заказать небольшую порцию яиц по-русски. Это было очень вкусно. С яйцами я съел парочку соленых рожков, и ел я как можно медленнее, наслаждаясь наперченным салатом с салями, подававшимся с крутыми яйцами. Спустя двадцать минут я вытер губы толстой полотняной салфеткой и отправился обратно в Подебрады, ощущая свою принадлежность к высшему свету.
После этого дня я неоднократно мерз по субботам на обочинах областных дорог и голосовал проезжавшим водителям. Иногда это длилось часами, иногда занимало целый день, но в конце концов я обязательно добирался до мрамора и дамаста столиков кафе «Манес» и вкушал блаженство на протяжении двадцати минут. Я больше ни разу не сходил в зоопарк, ни разу мне не пришло в голову заняться в Праге чем-нибудь еще. Но именно с тех пор яркие огни города стали притягивать меня, словно мотылька, и я понял, куда я отправлюсь, окончив школу в Подебрадах, я понял, что другого места в мире для меня не будет.
В феврале 1948 года в Чехословакии пришли к власти коммунисты. Сталин усиливал хватку на всех территориях, освобожденных Красной Армией во время войны, так что у чешских политиков появились советские наставники.
В Италии Витторио Де Сика монтировал «Похитителей велосипедов».
В Праге коммунистический министр культуры Вацлав Копецкий, с которым не раз пересекутся мои дороги в предстоящие годы, громил чешскую буржуазию в речи, передававшейся по национальному радио: «Мы заткнем вам глотку нашими пулями!» Он задавал тон политическим дискуссиям на ближайшие сорок лет.
В Подебрадах революцию почти не заметили. На улицах ничего не происходило, а радио у меня не было, и единственное, что бросилось в глаза, так это то, что старшеклассники внезапно заболели коммунизмом. Они проводили страстные митинги, подписывали воззвания, размахивали транспарантами, говорили об окончании эксплуатации человека человеком.
Я был всего на пару лет моложе их, но, как ни странно, в нашей компании никто не задумывался о таких вещах. Мы хладнокровно наблюдали за театральным энтузиазмом старших мальчиков. Нам казалось маловероятным, что все вдруг начнут работать по способностям, получая по потребностям, что сильные внезапно с радостью бросятся на защиту слабых, что революция может изменить страсть человека к соревнованию.
В ту весну «Рут», подобно всем прочим гостиницам в стране, была национализирована как капиталистическое средство эксплуатации пролетариата. То, что мы не нанимали служащих, а гостиница работала только летом, не имело значения. У меня не было другого жилья, поэтому за мной временно оставили комнату в гостинице.
Когда закончился учебный год, я поехал в «Рут» один. Оба старших брата поселились в том же районе, я не был отрезан от них. Однако я освободился от их надзора и мог подумать об осуществлении моих планов на лето 1948 года — в эти планы входила потеря девственности.
Когда я приехал на озеро Махи, брат сказал мне, что нашу «Рут» арендовали для проведения двухнедельного интенсивного семинара по «социалистическому моделированию одежды». Я не мог поверить в свое счастье. Я помчался в дом и обнаружил, что в нем полно молодых женщин. Беда в том, что при социализме манекенщиц отбирали не по внешнему виду, а по политической зрелости.
Тем не менее я часами сидел у окна и наблюдал за занятиями. Домашнего вида девочки немного занимались гимнастикой, а потом садились обсуждать проблемы марксизма-ленинизма. Они умирали от тоски, и я быстро присмотрел самую хорошенькую и начал с ней настоящую дуэль взглядов. Это была невысокая девушка с мальчишеской фигуркой, крепкими бедрами, короткими темными волосами, нежной кожей и вполне обычным личиком, и она беззастенчиво пялилась прямо на меня. Если я строил ей рожи, она улыбалась, так что я мимикой начал приглашать ее к себе в комнату. Она показала жестами, что хотела бы, но не может.
Она не лгала. Коммунисты отличались пуританским взглядом на жизнь, и у девушек был строгий режим. Их пухлые инструкторши с прыщавыми лицами надзирали за ними не хуже бдительных сицилийских дуэний. Я пытался бродить по коридорам поздно вечером и рано утром, но мне ни разу не удалось обменяться больше чем парой слов с моей социалистической манекенщицей. Ей было шестнадцать, как и мне, она приехала из маленького городка в Моравии и надеялась через пару лет поступить в школу в Праге. Она сказала, что ей было бы приятно, если бы я показал ей окрестности, но она просто не представляет, как улизнуть, даже на короткую прогулку.
Улыбок и коротких разговоров оказалось достаточно, чтобы вдохновить меня на создание поэмы, в которой я называл ее моими Моравскими Глазками, но не успел я показать ей свое творение, как двухнедельный курс марксистско-ленинского моделирования подошел к концу. В последний день семинара я столкнулся с одной инструкторшей. Я решил рассказать ей о моих лирических чувствах к Моравским Глазкам, потому что не знал, что еще я мог сделать. У инструкторши были усики и неправильный прикус, но она была старше и опытнее меня, и я не успел даже рта раскрыть.
— Ты что, надо мной смеешься? — накинулась она на меня. — Ты сидел у окна, как ящерица!
Она высмеяла меня, но пообещала прислать Моравские Глазки на берег озера в восемь часов вечера. Я собирался играть в карты с ребятами постарше, но поспешил принести им свои извинения.
— Простите, ребята, но у меня свидание.
— Ни фига себе! А с кем?
— Видели эту манекенщицу из Моравии?
— Может быть, она сделает из тебя мужика, а? — дразнились они. — Случались вещи и более странные!
— Может быть.
Я не мог положиться на волю случая. Я почистил брюки, футболку и теннисные туфли и пришел на берег за полчаса до назначенного времени. Пробило восемь. Время шло. Я любовался закатом. Я давил комаров на шее. Я вспоминал, как беззастенчиво Моравские Глазки рассматривала меня, и не мог представить себе, что она обманет.
Наконец в девять часов я увидел тень на дорожке, ведущей от гостиницы к озеру. Тень походила на девушку, и мое сердце забилось. Но это оказалась лишь посредница, инструкторша, которая пришла сказать мне, что Моравские Глазки заболела и не придет. Я был так потрясен, что не заметил ни нарядного платья наставницы, ни приятного духа соперничества, исходившего от нее. Ей было далеко за двадцать, и она казалась мне старухой; мне даже в голову не пришло, что болезнь Моравских Глазок может огорчать ее не так сильно, как меня.