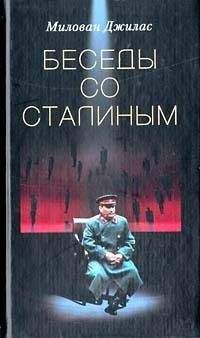Я упомяну только о том, что показалось мне значительным в том поверхностном и малозаметном перескакивании с одного предмета на другой во время того обеда.
Напомнив о прежних связях между южными славянами и Россией, я сказал:
– Но русские цари не понимали чаяний южных славян – они были заинтересованы в империалистической экспансии, а мы – в освобождении.
Сталин согласился, но только с другой стороны:
– Да, русским царям не хватало кругозора. Интерес Сталина к Югославии отличался от интереса других советских лидеров. Его не беспокоили жертвы и разрушения, его беспокоило, какого рода международные отношения были созданы, какова была действительная сила повстанческого движения. Он черпал эту информацию, даже не задавая вопросов, прямо по ходу самого разговора.
В какой-то момент он проявил интерес к Албании:
– Что там на самом деле происходит? Что они за люди?
Я объяснил:
– В Албании происходит во многом то же, что и в Югославии. Албанцы – самый древний балканский народ – более древний, чем славяне и даже античные греки.
– Но откуда их поселения получили славянские названия? – спросил Сталин. – Не имеют ли они какой-либо связи со славянами?
Я объяснил и это:
– Славяне населяли долины в ранние времена – отсюда славянские названия мест, а потом, в турецкие времена, албанцы вытеснили их.
Сталин озорно подмигнул:– А я-то надеялся, что албанцы хотя бы немножко славяне.
Рассказывая ему о характере боевых действий в Югославии, я отметил, что мы не брали в плен немцев из-за того, что они перебили всех наших пленных.
Засмеявшись, Сталин прервал меня:
– Один из наших военных вел большую группу немцев и по дороге убил всех, кроме одного. Когда он прибыл к месту назначения, его спросили: «А где же все остальные?» – «Я просто выполнял приказ главнокомандующего, – ответил он, – убивать всех до последнего, – и вот вам последний».
В ходе разговора он сделал замечание о немцах:
– Странные люди, как бараны. Я с детства помню: куда бы ни пошел баран, все остальные идут за ним. Помню также, как я был в Германии до революции: группа немецких социал-демократов с опозданием прибыла на съезд, потому что им пришлось ждать подтверждения билетов, или что-то в этом роде. Поступили бы так когда-нибудь русские? Кто-то хорошо сказал: в Германии не может быть революции, потому что для этого потребуется топтать газоны.
Он просил меня сказать ему, как будет по-сербски то или иное слово. Конечно, огромное сходство между русским и сербским было явным.
– Ей-богу, – воскликнул Сталин, – сомнений быть не может: те же самые люди!
Рассказывали и анекдоты. Сталину особенно понравился один из рассказанных мною:– Турок и черногорец разговаривают во время редкого момента затишья. Турок поинтересовался, почему черногорцы постоянно ведут войны. «Чтобы грабить, – отвечает черногорец. – Мы бедны и надеемся получить добычу. А вы за что воюете?» – «За честь и славу», – отвечает турок. На что черногорец замечает: «Каждый воюет за то, чего у него нет».
Расхохотавшись, Сталин прокомментировал:
– Ей-богу, это глубоко: каждый воюет за то, чего у него нет.
Молотов тоже засмеялся, но опять сдержанно и бесшумно. В самом деле он был не способен излучать или воспринимать юмор. Сталин поинтересовался, с какими руководителями я встречался в Москве, и, когда я назвал Димитрова и Мануильского, он заметил:
– Димитров умнее Мануильского, намного умнее. – При этом он коснулся роспуска Коминтерна: – Они, западники, настолько хитры, что даже ничего нам об этом не сказали. А мы настолько упрямы, что, если бы они об этом что-то сказали, мы бы вообще его разнесли. Ситуация в Коминтерне становилась все более и более ненормальной. Мы здесь с Вячеславом Михайловичем ломали голову, а Коминтерн все тянул в своем направлении – и разногласия становились все острее. Легко работать с Димитровым, с другими труднее. Главнее всего то, что было что-то ненормальное, что-то неестественное в самом существовании общего коммунистического форума в то время, когда коммунистическим партиям надо было искать национальный язык и вести борьбу в условиях, превалирующих в их собственных странах.
В течение вечера поступили две депеши; Сталин дал мне прочитать обе.
В одной из них сообщалось содержание того, что сообщил Шубашич государственному департаменту Соединенных Штатов. Позиция Шубашича заключалась в следующем: мы, югославы, не можем быть против Советского Союза, как не можем мы проводить и антироссийскую политику, потому что среди нас очень сильны славянские и пророссийские традиции.
На это Сталин заметил:
– Это Шубашич пугает американцев. Но зачем он их пугает? Да, пугает их! Но зачем, зачем? – А потом добавил, вероятно заметив на моем лице удивление: – Они воруют наши депеши, мы воруем их.
Второе послание было от Черчилля. Он сообщал, что высадка во Франции начнется на следующий день. Сталин начал осмеивать депешу:
– Да, высадка состоится, если не будет тумана. До сих пор постоянно что-то мешало. Завтра, подозреваю, будет что-нибудь еще. Может быть, они случайно встретятся с немцами! Ну и что, если они случайно встретятся с немцами! Может быть, тогда высадка и не состоится, а все, как обычно, ограничится обещаниями.
Как обычно, хмыкая и бормоча, Молотов начал объяснять:– Нет, на этот раз все будет как надо.
У меня возникло впечатление, что Сталин в высадке союзников всерьез не сомневался, но цель его состояла в том, чтобы высмеять ее и в особенности причины ее прежней задержки.
Когда сегодня подвожу итоги того вечера, мне кажется, что я мог бы прийти к выводу, что Сталин умышленно запугивал югославских руководителей, чтобы ослабить их связи с Западом, и в то же время пытался подчинить их политику своим интересам и своим отношениям с западными государствами, прежде всего с Великобританией.
Исходя из идеологии и методов, личного опыта и исторического наследия, Сталин считал надежным только то, что было у него в кулаке, а все, кто находился вне контроля его полиции, являлись потенциальными врагами. В силу условий войны югославская революция была вырвана из-под его контроля, а возникавшая за ней сила становилась для него слишком осознающей свой потенциал, чтобы ей можно было просто отдавать приказы. Он это осознавал и поэтому просто делал все, что мог, эксплуатируя антикапиталистические предрассудки югославских руководителей против западных государств. Он старался привязать этих руководителей к себе и подчинить их политику своей.
Мир, в котором жили советские руководители – а это был и мой мир, – начал медленно принимать для меня новые очертания: ужасная, непрекращающаяся борьба со всех сторон. Все обнажалось до предела и сводилось к соперничеству, менявшемуся только по форме, в котором выживали лишь самые сильные и ловкие. Я еще и до этого был полон восхищения советскими лидерами, а теперь предался совершенно неистовому энтузиазму в отношении той неисчерпаемой воли и осведомленности, которые не покидали их ни на мгновение.