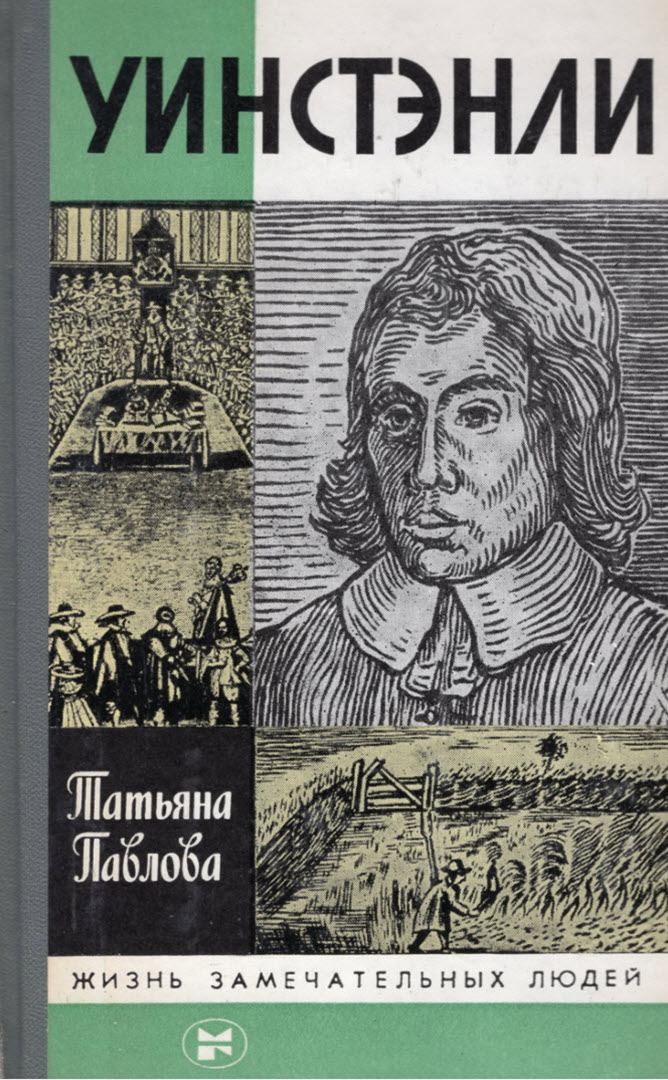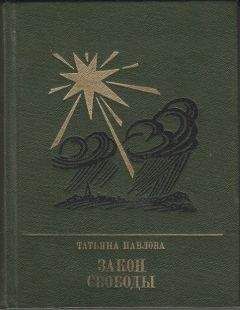выпустил декларацию, в которой сообщал, что намеревается возвратить на трон своего отца и распустить армию. Он обещал отменить акциз, постои солдат в частных домах и бдительно охранять собственность подданных.
Флот мог выступить к берегам Англии в любую минуту, и потому весть о роялистском мятеже в Кенте, на восточной границе страны, ближе всего расположенной к враждебной Голландии, встревожила руководителей армии не на шутку. Страна, поправшая вековечные королевские прерогативы, оказывалась в кольце: с запада ей угрожали роялисты Уэльса, которых готова была поддержать всегда неспокойная Ирландия, с севера наступали шотландцы; кавалеры, ободренные их угрожающими действиями, захватили Бервик и Карлайл. И вот 21 мая престарелый лорд Горинг, граф Норич, собиравший антипарламентские силы в Эссексе и в самом Лондоне, поднял крупное восстание в Кенте. В его руках оказались западные порты, медлить было нельзя.
Кромвель находился к этому времени уже далеко — в Южном Уэльсе. В Кент направились Фэрфакс и Айртон. 1 июня главнокомандующий во главе послушных его воле парламентских войск ворвался в Мэдстон, находившийся всего в каких-нибудь тридцати милях от Лондона. Солдаты выдержали жестокий уличный бой и овладели городом полностью на следующий день. Через несколько дней в руки Фэрфакса перешел Рочестер, имеющий выход к морю. Шестого июня полковник Рич отвоевал у роялистов Дувр, через два дня Айртон захватил Кентербери. Главные роялистские силы отступили к северу и 12 июня подняли свое знамя в Колчестере, древней римской столице Британии. У них насчитывалось около 4 тысяч человек, и они укрепились не на шутку. Фэрфакс и подошедший из Кента Айртон были вынуждены начать осаду.
Он выполнял свой долг, тридцатишестилетний главнокомандующий армией лорд-генерал Томас Фэрфакс, сын барона и сам принявший от короля знаки баронского титула. Он был профессиональным военным — служил в голландских войсках во время Тридцатилетней войны на континенте, потом командовал отрядом драгун в Шотландии. Он привык беспрекословно повиноваться вышестоящей власти и бесстрашно, самоотверженно, с блеском вести армию в бой. Личный героизм, самодисциплина, сдержанность привлекали к нему сердца солдат: они любили и уважали «Черного Тома». Сам Кромвель отмечал его доблесть и писал: «В победе он видит перст божий и скорее умрет, нежели припишет себе всю славу».
Но когда дело доходило до политики… Здесь то ли старомодное понятие о воинской чести, то ли происхождение, то ли армейская выучка, то ли еще что-то мешало генералу Фэрфаксу идти безоглядно, действовать твердо. Одним из первых он вышел из парламента по требованию «Акта о самоотречении», который запрещал депутатам занимать высшие военные и государственные должности. И был за то избран главнокомандующим 21 января 1645 года. А вот Кромвель и из парламента не вышел, и в армии остался. Сам Фэрфакс писал об этом ходатайство: «Всеобщее уважение и любовь, которой он пользуется среди офицеров и солдат… его личные достоинства и способности… заботливость и прилежание, храбрость и верность… делают пашу просьбу о его назначении нашей обязанностью…»
Захват короля армией летом 1647 года претил генералу; в согласии с древними английскими традициями он относился к монарху с большим уважением и не переставал целовать ему руку при встрече, даже когда тот был уже пленником. Он всегда был за переговоры, за мир с королем, а не за войну, и никогда не решился бы говорить с «божьим помазанником» так дерзко, как позволял себе Айртон. Одним словом, когда дело доходило до политики, генерал чувствовал себя прежде всего миротворцем; этот явный парадокс заставлял его ощущать свою слабость рядом с резким, жестким, решительным «Кассием» — генералом Айртоном.
И сейчас, деловито отдавая приказы о подвозе орудий и снаряжения, стягивая понемногу кольцо осады вокруг солидно укрепленного Колчестера и вежливо выслушивая безапелляционные советы Айртона, Фэрфакс нет-нет да и подумывал о том, что война англичан против англичан бессмысленна и жестока, что агитаторы, возможно, были и правы, обвиняя его на прениях в Петни в сочувствии королю, что, может, и в самом деле в начале года следовало распустить армию…
В первых числах июня он узнал, что лондонский муниципалитет потребовал возобновления переговоров с Карлом и лорды одобрили это выступление. Из ряда графств приходили петиции о том же. Его длинное испанское лицо с глубоким шрамом на левой щеке — следом ранения — при получении подобных известий подергивалось, смуглая кожа бледнела, сердце сжималось. Парламентское большинство — пресвитериане, желавшие заключить мир с королем, правы, думал лорд-генерал, сам принадлежавший к умеренным пресвитерианам. Армейское своеволие не доведет страну до добра…
И летом 1648 года лили дожди, лили не переставая; темные низкие тучи закрывали небо, пастбища под копытами коров превращались в жидкое месиво. Сильные холодные ветры и бури, невиданные в это время года, сотрясали Англию.
Уже к июлю стало ясно, что и в это лето, как и в прошедшие два, урожая не будет, и значит, цены на хлеб еще возрастут, голод станет ощутимее, безысходная нищета оскалит зубы.
Тяжко было на душе, тяжко и беспокойно. И чтобы облегчить эту тяжесть, Уинстэнли писал. Новая работа, обращенная к братьям-беднякам, должна была вывести их на свет божий, показать обетованную землю — рай для святых, для лучших, для угнетенных… Открывая им свет, он сам получал облегчение. «Моим любимым друзьям, — писал он, — чьи души алчут чистого молока правды…» Взглядывал в окно, где из плотных свинцовых туч сеял нескончаемый дождь, и вновь склонялся к листу: «Земля покрыта тьмою, и Бог открывается лишь немногим, которые разбросаны и разъединены меж собой… Мне было открыто, что, строя на словах и писаниях других людей, я строил на песке…»
Он уже знал откровение — то внезапное понимание сущности разных сторон жизни, которое приходило к нему иногда ночами, а иногда и днем, когда он рассеянно следил за коровами, разбредавшимися по широкому горбу холма Святого Георгия. Пастушеская жизнь располагает к созерцанию. Она медлительна и органична: небо и земля распахнуты перед тобой, дуб, под которым ты сидишь, шелестит ветвями, трава оплетает ноги… В таком вот долгом молчании и одиночестве он понял однажды, что образ бога, сидящего в славе на небесах, — это ложный образ, сотворенный немощной и загрязненной человеческой плотью. Этот ложный образ заставляет людей преследовать и убивать тех, кто думает иначе, кто отличается от них. «Смотрите на Бога, — писал он, — как на правителя внутри себя; и не