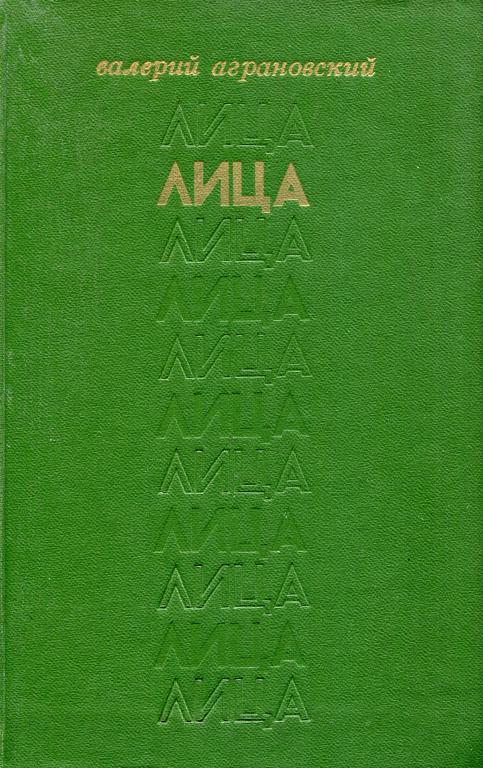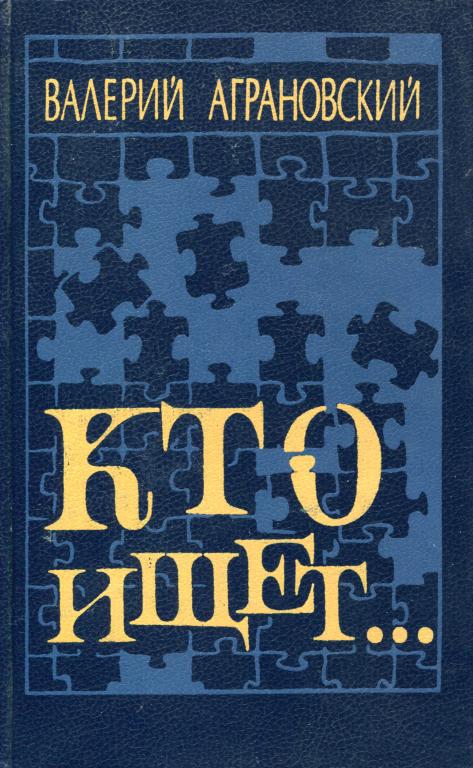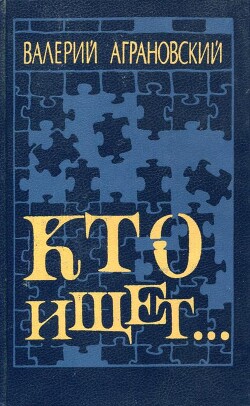забот, при такой путанице с организацией труда — до человека ли? Если к начальнику мехколонны Усманову приходил рабочий и жаловался, что в общежитии клопы, Усманов отвечал, что жильем он не ведает, что ведает жильем начальник СУ-833 Гришин: пусть Гришин и «чешется». А Гришин отвечал, что клопов морить — дело санэпидстанции, а дело Гришина — строить дома. А на санэпидстанции отвечали, что пешком за сто километров они морить клопов не пойдут и пусть автобаза дает машину. А начальник автобазы отвечал, что все машины у него расписаны, все на линии и тот же Усманов с него голову снимет, если недополучит хоть одну, и если Усманов хочет, пусть «отрывает от себя» и дает санэпидстанции. А Усманов отвечал… впрочем, вы уже знаете, что ответил Усманов: «кольцо» замкнулось.
Конечно, все в мире относительно — и Абаза для кого-то столица. Когда в Абазу вырывались рабочие, живущие в деревне Кубайке, они чувствовали себя настоящими провинциалами. Они могли попасть наконец в нормальный кинотеатр, в приличную пивную, которая называлась «Голубым Дунаем» и «Мордобойкой», в парикмахерскую, в баню с парилкой, на танцплощадку с деревянным полом и даже в клуб. Собственно, я перечислил все, чем располагает «столица» Абаза и что отсутствует в «провинции» Кубайке. Люди там жили в бараках без сушилок, без душа, без единого шкафа — вещи хранили в чемоданах, как на вокзале, и когда шел дождь, передвигали их из угла в угол: текли крыши. В магазинах можно было найти водку и «одну консерву», потому что орсу выгоднее было привезти на трассу машину водки, чем на ту же сумму десять машин молока. Радио не работало, красного уголка не было, три газеты на весь поселок, телеграммы шли по семь дней…
И вроде бы нет виноватых.
Если бы вам пришлось познакомиться с руководителями стройки и наблюдать их в деле, вы, так же как и я, пережили бы странное чувство. Вам был бы симпатичен Усманов, немолодой человек, который буквально не щадил себя, мотаясь с утра до вечера по трассе. Вам было бы приятно смотреть на Платова, молодого специалиста, который еще ни разу не повысил голоса, разговаривая с шоферами, у которого мягкое и доброе сердце и синие круги под глазами от постоянного недосыпания. И вы согласились бы «войти в положение» Гришина, и главного инженера управления, и других, у которых тоже были нервы, и семья, и собственные заботы, и предел человеческих сил, и, конечно же, куча объективных причин. Это самообман. Не поддавайтесь ему! Какие «объективные причины» мешают сделать в бараках сушилки, чтобы рабочие, вернувшись с ненастья, могли высушить свои штаны? Или этот вопрос требует в каждом конкретном случае «сложного согласования» с Советом Министров? Какой «предел человеческих сил» нужен руководителям стройки, чтобы налаживать работу клуба, организовывать консультативные центры для учащихся вечерних школ, исправлять радио и чинить крыши? Какие «нервы» им надо иметь, чтобы морить клопов и заставлять орс кормить рабочих нормально?
Да просто каждый человек, на каком бы посту он ни находился, какие бы трудности ему ни мешали, должен делать хотя бы то, что он может делать.
Закономерно поставить вопрос и так: ну а что же сам Алексей Побединский, наш романтик, здоровый и энергичный парень, бывший солдат? Он что-то мог сделать? От него что-то зависело?
Вы помните, я прервал рассказ, когда он задумался над своей судьбой…
К весне из шестидесяти солдат, приехавших на автобазу, работали только двенадцать. Остальные, как приехали в зеленом, так, не сменив одежду, в зеленом и уехали. Вечерами они собирались в общежитии. Ругали Панарина, считая, что он их обманул, чертыхались, вспоминая машины из «зеленого ряда», и были счастливы хотя бы тем, что страна наша большая, можно куда угодно поехать. Потом ложились спать, так ни о чем и не договорившись.
Но вот однажды Алексей не выдержал, решительно вошел в кабинет Платова и, глядя ему прямо в глаза, сказал все, что думал: о работе, о себе, о нем. Платов молча выслушал, потом вздохнул и тихо ответил: «А я что могу?..» И через несколько дней Алексей неожиданно стал секретарем комсомольской организации автобазы.
С этого дня он спал не более четырех часов в сутки. Ему казалось, что теперь, наделенный властью, он что-то способен сделать и что люди ждут от него этих дел. Он собирал членские взносы. Писал отчеты в райком комсомола. Мотался по всему поселку в поисках повязок для дружинников. Целую ночь рисовал «Комсомольский прожектор», а потом искренне удивился, когда узнал, что его тут же сорвали. Вывешивал какие-то объявления о воскресниках, на которые почему-то приходило не больше десяти человек из ста возможных. Организовал первое за последние полгода собрание, на котором приняли в комсомол двух ребят. «Устав знаете?» — «Знаем!» Больше вопросов не задали и разошлись. Потом Алексей ругался с Платовым по поводу организации бригад, но Платов тихим голосом ему объяснил, что бригады на автобазе невозможны, а почему невозможны, Алексей так и не понял. Потом он бегал в райком комсомола, заседал там по нескольку часов в неделю, и Платов ему однажды сказал: «Стал ты, Побединский, штатным вождем, теперь от тебя для плана толку не будет». За все теперь он был в ответе. В общежитии сломали стул — спрашивали с него. Подписка на газеты — его брали за горло. На пенсию кого провожать — он ходил по кругу, собирая деньги.
И однажды, проснувшись утром, Алексей сел на койке, обнял руками голову и понял, что нет никакого смысла в его беготне. Что-то, наверное, не так он делал или что-то не то, если за два месяца беготни все осталось по-прежнему. А что надо делать и как, никто ему, Алексею, не говорил, и сам секретарь райкома, кроме членских взносов, от него ничего не требовал.
Как раз подоспело, время ехать Алексею в Абакан на пленум обкома комсомола. Там, на пленуме, он записался выступать, его очередь была четырнадцатая, и он сидел в зале весь в напряжении, слушая ораторов. Когда первый из них отрапортовал по бумажке об успехах и победах, Алексей ему позавидовал. Когда второй отрапортовал, Алексей удивился. Когда третий — стал сомневаться. А когда, отстрелявшись, сошел с трибуны десятый, он послал в президиум записку: «От выступления отказываюсь».
На автобазу он вернулся окончательно скисшим. Ну чего он мог один добиться? А как быть не одному, он просто не знал, не умел, не мог. Товарищи у него были неплохие, но далекие от комсомольской работы. И никак он не находил единомышленников, хотя знал, что они есть, что