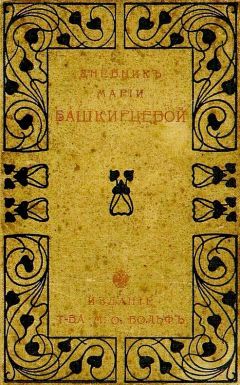Неистовство его любви в конце концов восторжествовало над моим хоть и дружеским, но все же равнодушием, и я быстро заметила, что чувствую себя гораздо больше его женой, чем это было с Таде, который, скорее, оставался другом детства. Но откуда эта постоянная подозрительность? Его отец очень долго был врачом в гареме султана в Константинополе[126]. Он привез оттуда груду драгоценностей и огромное состояние. Может быть, оттуда же шло унаследованное Альфредом такое несвойственное Западу представление о женской свободе? И может быть, я должна считать себя счастливой, что он не заставлял меня носить чадру?
Из Мадрида Эдвардс немедленно связался со своими поверенными, чтобы как можно быстрее оформить наши разводы[127]. Он вложил в это столько энергии и денег, что все было сделано в рекордные сроки. Мы вернулись в Париж, где в один миг сочетались браком в мэрии на улице де Батиньолль. Все это немного походило на фокус.
Жизнь с Эдвардсом — Смерть Тулуз-Лотрека — Нравы парижской прессы — Визит Теми де Гурмона Карузо — Сеансы у Ренуара
Мы сняли прекрасную квартиру на улице де Риволи напротив Тюильри, и пока там шли работы, жили на Вандомской площади в «Отеле дю Рейн».
У Эдвардса был замок в Корбейе. Настоящий замок, с башнями и всем прочим. Меня всегда ужасали замки, особенно если надо было стать их владелицей. Я не отставала от Альфреда, пока он не продал свой. По-моему, замок что-то значит, только если носишь историческое имя, если он передается по наследству и если обладаешь средствами, необходимыми, чтобы сохранить его в первозданном виде. В противном случае зачем обременять себя заботами об огромном поместье, которое лишает возможности путешествовать, потому что считаешь себя обязанным проводить там все каникулы? При этом испытывать чувство, что отнял его у законных владельцев. Земельная собственность никогда ничего не значила для меня.
Кроме того, ее границы мне кажутся абсурдными и внушают ужас. Зачем ограничиваться двумя или тремя сотнями гектаров, когда я могу наслаждаться всем земным шаром? Если у меня есть чудесный автомобиль или хорошая яхта, разве я не буду чувствовать себя как дома во всем мире? И насколько свободнее! Останавливаясь где захочу, уезжая когда захочу — у меня будет в тысячу раз больше земли, чем у маркиза де Карабаса[128].
Прекрасные машины у нас были. Но яхты мы не имели. Я попросила Альфреда взамен замка построить ее. Это должен был быть houseboat[129], который я заранее полюбила. План был немедленно набросан… Мне хотелось, чтобы он родился как по мановению волшебной палочки.
Вернувшись в Париж, к моему великому огорчению, я застала Лотрека опасно больным. Увидев его в клинике, куда приходила каждый день, я была потрясена тем, как он изменился: впалые щеки, землистый цвет лица. У него был вид человека обреченного. Однако, несмотря на приступы удушья, он еще с радостью рисовал. Не знаю, почему он стал называть меня Ласточкой. На известной серии рисунков, вдохновленных цирком, над которыми он тогда работал и которые посвятил мне, под знаменитым кружочком с его монограммой стояло «Ласточке». Недавно я нашла часть этих рисунков, принадлежавших мне, на экспозиции выставки декоративного искусства и вспомнила, что когда-то одолжила их Манци и Жуайяну[130], которые хотели издать их. Я забыла попросить вернуть рисунки, а они — отдать!
В середине лета, так как состояние Лотрека ухудшалось, его перевезли к отцу в Альби. Оттуда он уже не вернулся. Отец целые дни проводил у постели сына. Человек своеобразный, он сделал маленький лук с крошечными стрелами, с помощью которых отгонял мух, мучающих Лотрека! К концу лета Лотрек умер, едва достигнув тридцати пяти лет. Для меня это было настоящим большим горем…
Как только мы обосновались на улице де Риволи, я вновь нашла своих прежних друзей. К ним присоединились друзья Эдвардса. В большинстве своем они принадлежали к новой для меня театральной и журналистской среде. Вскоре я заметила, что Альфред был настоящим властелином этого любопытного мира парижской прессы. Из тех, кто обладает властью, пресса больше всего окружена угодничеством и искательством. Откуда шло это гипнотическое воздействие директоров больших газет на женщин определенного сорта, так и осталось для меня тайной, хотя я близко их наблюдала.
Тогдашний директор «Фигаро»[131] Перивье часто бывал у нас. Его отличала безграничная любовь и нежность к собственной персоне. Каждый день приносил ему радость встречи с самим собой. Он признался мне, что лучшее мгновение — это утреннее пробуждение, когда он желает себе доброго дня. Часто он советовал мне быть предусмотрительной: «Делайте сбережения, моя милая, делайте сбережения. С Альфредом и вашим образом жизни вы кончите нищетой». Пока же это с ним приключались неприятности. Однажды он, особенно тщательно одевшись, пошел к своей любовнице Маргерит Дюран. Когда он проходил мимо кафе «Наполитэн», ему на голову свалился полный ночной горшок, который услужливый прохожий неловко надвинул ему по самые плечи. Несчастный, с трудом освободившись от него, бросился в туалет, где, как следует умывшись, оросил себя одеколоном. «Боже, как хорошо вы пахнете!» — воскликнула Маргерит Дюран, как только он вошел. В тот же вечер уличные продавцы газет горланили об этом благоухающем приключении, на которое с жадностью набросились журналисты.
Вскоре он должен был уступить директорство «Фигаро» Кальметту[132]. Эдвардс пришел в такую ярость из-за этой замены, что замыслил тайную интригу против нового директора. Он пошел к тестю Кальметта, Преста, владевшему большинством акций «Фигаро», и так ловко повел дело, что спустя три недели весь пакет акций перешел к нему. Причем все это оставалось в строгом секрете. После чего он попросил меня пригласить Кальметта к обеду. Зная, что он его не жалует, я была удивлена. Обед прошел вполне мирно, и я совсем не понимала, чего хотел Альфред, как вдруг он спокойно заявил, что решил сам стать директором «Фигаро». Кальметт побледнел. Когда он понял, что Эдвардс обладает контрольным пакетом акций, несчастный на коленях через весь салон пополз к моему креслу и, сложив руки, умолял заступиться за него. Я была так смущена, что не знала куда деваться. Ярость из-за того, что Альфред заставил меня присутствовать при этой сцене, овладела мною. Почему он не вызвал его в свой кабинет, если намеревался совершить смертную казнь? Я была не в силах видеть Кальметта, ползающего по ковру, и настойчиво попросила Эдвардса отложить свое решение. В конце концов он согласился, и спасенный целовал мне руки.