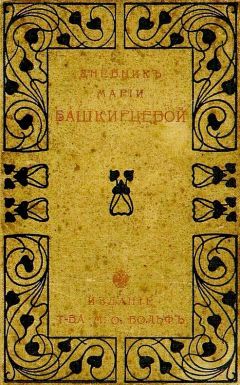Маленькие лошадки появлялись, когда вы выходили из воды.
В Трувилле мы застали Карузо, который был на вершине славы. Я хорошо его знала, часто виделась с ним в Париже. У меня тогда была в «Опера» одна из чудесных лож, расположенных на самой сцене. К несчастью, они были уничтожены после войны 1914–1918 годов из-за какой-то необходимой модернизации сценической площадки. Трудно вообразить что-нибудь красивее и декоративнее этих маленьких красных бархатных балконов, нависающих с двух сторон сцены, с дамами, прически которых были украшены перьями и драгоценными камнями, небрежно облокотившимися на перила. За ложами были маленькие салоны с обитыми бархатом диванчиками и зеркалами на стенах. Во время антракта актеры и друзья заходили туда выпить шампанского. Они служили также прибежищем от скуки: если спектакль оказывался неудачным, там можно было спокойно поболтать. Опера потеряла много из своего очарования, отказавшись от этих лож.
Карузо был завсегдатаем нашей ложи, поэтому он нашел совершенно естественным стать завсегдатаем и нашей яхты. Он утверждал, что она обладает замечательным резонансом. Действительно, в маленьком салоне со стенами, обшитыми деревянными панелями, играя на пианино, я словно слышала созвучие скрипки. Знаменитый тенор без устали упражнялся, репетировал, напевал целыми днями. К несчастью, он имел слабость к неаполитанским песням, которые я не переваривала.
— Хватит! Хватит! — закричала я однажды. — Не могу больше.
Никогда не видела более пораженного человека. «Это уж слишком! — пробормотал он, ошарашенный, с глазами, вылезшими из орбит. — Первый раз останавливают меня… меня, Карузо! Великого, грандиозного Карузо!.. Меня, которого принцы коленопреклоненно умоляют открыть рот, вы просите его закрыть!..» Его негодование было беспредельно и искренно. Но на другой день вновь раздавались и божественный голос, и непереносимые неаполитанские песни.
Я так полюбила свою яхту, что, даже вернувшись в Париж, жила там целыми неделями. Зимой она была пришвартована у набережной Орфевр. Для меня было большой радостью иметь несколько мест, где я могла бы жить, когда захочется (кроме квартиры на улице де Риволи я сохранила апартаменты в «Отеле дю Рейн»). Это, наверное, было то время моей жизни, когда я имела все, что только могла пожелать женщина. Действительно, мне нечего было больше хотеть. И все же вспоминается одно воскресное утро, когда, лениво раскачиваясь в кресле-качалке на носу «Эмэ», я грустно смотрела, как солнце ласкает воды Сены и, стараясь придать себе вид мученицы, говорила про себя: «Бог мой! Бог мой! Неужели моя жизнь всегда будет такой несчастной и бесцветной?»
Вскоре после того, как мы поселились на улице де Риволи, Ренуар снова захотел написать мой большой портрет в розовом платье. Бедный, он был в это время почти парализован из-за артрита. В восемь с половиной утра мой консьерж помогал его неразлучной прислуге Габриэлль[139] вкатить Ренуара в кресле на колесиках в лифт, и он появлялся в моем будуаре, где его ждал мольберт. Габриэлль с помощью резинки прикрепляла кисть к его скрюченной руке и принималась высказывать свое мнение о работе мэтра. Ренуар не обращал на это ни малейшего внимания и начинал писать, дожидаясь меня.
Я бывала обычно готова к десяти часам. В розовом платье, с челкой на лбу, садилась в большое кресло, послушно приняв нужную позу. В этой маленькой комнате, со стенами, обтянутыми зеленым шелком, и двумя окнами, выходящими на Тюильри, был превосходный свет.
С полузакрытыми глазами (один был всегда больше открыт, чем другой) прекрасный старец с белоснежной бородой любовно смешивал краски. Только любовь могла создать перламутрово-розовый цвет, который рождался под его кистью. Он держался очень прямо в своей серой фуфайке, в простой велосипедной каскетке, с которой никогда не расставался.
Под монотонное бормотание Габриэлль, беспрерывно что-то советовавшей и критиковавшей, Ренуар рассказывал мне о Коммуне[140]. Это была его излюбленная тема. Часами он мог вспоминать время, которое глубоко волновало его. Потом он вдруг переставал работать, умоляя открыть чуть больше мое декольте.
— Ниже, ниже, прошу вас, — настаивал он. — Бог мой, почему вы не показываете вашу грудь?.. Это преступление!
Я много раз видела, что он готов был расплакаться.
Никто, как Ренуар, не мог оценить женскую кожу и передать на полотне ее прозрачность. После его смерти я часто упрекала себя, что не разрешила ему увидеть все, что он хотел. Оглянувшись назад, я нахожу мою стыдливость очень глупой, ведь речь шла о работе художника, который так страдал, когда не мог увидеть то, что казалось ему красивым.
Во время наших сеансов Ренуар не выносил никаких перерывов. Если мне было необходимо принять кого-нибудь, он яростно откатывал свое кресло в отдаленный угол комнаты и, сердитый, оставался там, не открывая рта, до ухода нежеланного ему посетителя.
Творчество молодых художников с каждым годом все больше интересовало его. Боннар и Вюйар стали его друзьями. Но при одном только имени Пикассо он взрывался. Отказывался слышать о нем и разражался настоящим гневом против тех, кто воспринимал Пикассо всерьез.
Чтобы закончить работу над портретом, Ренуару нужно было значительное время. Для семи или восьми моих портретов ему потребовалось по три сеанса в неделю в течение по меньшей мере месяца. А сеанс для него длился целый день, так как он оставался завтракать, а когда я возвращалась к концу полудня, он все еще писал, пока светило солнце, до самого заката.
Едва закончив один портрет, он уже воображал, в каком платье и в какой позе ему хотелось бы сделать новый. Ласково и настойчиво он звал меня в деревню. «Приезжайте, — писал он мне[141] 3 июля 1906 года, — я Вам обещаю, что на четвертом портрете постараюсь сделать Вас еще прекраснее. У меня все хорошо и будет еще лучше, если Вы сможете приехать повидать меня в Эссуа этим летом. Пока же я буду работать с превосходным натурщиком, которого мне прислал Валлоттон. Пишите мне сейчас в Эссуа-Об. Сделаю все возможное, чтобы показать Вам забавные вещи и чтобы еда была отменная».
Я не могла поехать в Эссуа, но взамен устроилась так, чтобы в следующее лето встретиться с ним в Ницце, где он снова принялся за мой большой портрет. Боннар, искренне восхищавшийся им, писал мне тогда:
«Я знаю от наших друзей, что Вы близко от Ниццы, как и предполагали, и что Вы встретились с добрым великим Ренуаром, который стал Вашим счастливым художником! Говорят, он сотворил чудеса. Я охотно в это верю. Думаю, Вам также интересно слушать его.