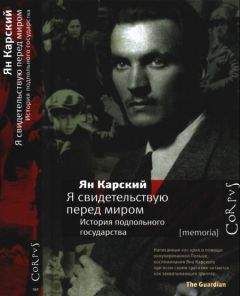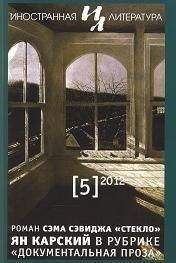На другой день спозаранок я побежал к кустам и тут же наткнулся на сверток. В нем была еда — больше, чем прежде, и записка: «Одежду принести не могу — меня заметят. Через несколько дней вас выведут из лагеря и повезут на принудительные работы. Постарайтесь сбежать по дороге».
С этого времени мы с друзьями держались наготове.
Дней через пять нас разбудили еще раньше обычного. Унтер с остервенением орудовал хлыстом. В серых предрассветных сумерках всех собрали и без объяснений повели на ближайшую железнодорожную станцию. Мы вчетвером лихорадочно перешептывались, соображая, что делать, но нас слишком хорошо охраняли, так что никакой возможности выскользнуть из колонны не представилось. Рассудив, что бежать из поезда будет легче, мы решили подождать.
На станции уже ждал длинный товарный состав. Охранники, подталкивая нас штыками и ругая «польскими свиньями», стали загонять в вагоны — человек по шестьдесят — шестьдесят пять в каждый. До войны в этих вагонах перевозили скот, о чем говорил их вид и запах. Длиной они были метров пятнадцать с небольшим, шириной три и высотой два с половиной метра. Не считая дверей, свет проникал внутрь через четыре узеньких окошка на уровне глаз. Только мы расположились в вагоне, как вошел ефрейтор и с ним охранник, который принес черствый хлеб. Пока он нам его раздавал, ефрейтор стоял у двери с пистолетом в руках. Охранник, следуя его примеру, выхватил свой. Ефрейтор осмотрелся, направил оружие на каждого из нас по очереди, чтоб сидели тихо, и прокричал на скверном польском:
— Внимание! Всех вас отправляют туда, где вы получите свободу и работу. Если будете вести себя как следует, бояться нечего. Но имейте в виду: поезд под надежной охраной, кто попытается бежать, будет немедленно убит. Каждые шесть часов вас будут выпускать на пятнадцать минут, а начнете шуметь и пачкать вагон — прикончат.
Он обвел нас суровым взглядом, словно пресекая возможное возмущение, и вышел из вагона, охранник за ним. Дверь закрыли на засов — мы услышали железный лязг.
После нескольких толчков поезд тронулся и поехал, медленно, то и дело останавливаясь и только изредка развивая приличную скорость.
Мы устроили совещание.
— Теперь или никогда, — сказал я товарищам. — Если не сбежим из поезда, всё — до конца войны нам не вырваться.
Они согласились. Оставалось выбрать подходящее место и время. Один из крестьян сказал, что лучше всего смыться на очередной пятнадцатиминутной остановке. Но мы отказались от этой идеи — на стоянках охранники были начеку.
Решено было дождаться вечера — когда въедем в леса, окружающие Кельце. Только вот выпрыгнуть из такого окошка непросто. Я припомнил, как мы делали в подобных случаях в детстве: трое поднимали четвертого и сначала пропихивали, а потом выталкивали его наружу.
— Но тогда, — заметил второй крестьянин, — нам понадобится помощь других солдат.
— Заручиться согласием всего вагона все равно придется, — возразил ему на это Франек. — Ведь из-за нас могут наказать всех, и если они воспротивятся нашему побегу, нам конец. — Он посмотрел на меня: — Ты должен убедить их. Скажи, кто ты и зачем собираешься бежать. Произнеси речь.
После секундного колебания я согласился. Роль моя в этом деле была такова, что отказываться не пристало. К тому же у меня имелся некоторый опыт в искусстве красноречия. В юности я намеревался стать великим оратором, много работал над собой, изучил любимые приемы всех крупных европейских политиков и дипломатов.
Итак, план был готов. Мы сидели как на иголках и ждали, когда стемнеет и начнутся леса. Франек то и дело выглядывал в окно. Наконец он порывисто шепнул:
— Пора. Скоро подъедем куда надо. Толкай свою речь.
Я встал и громко заговорил:
— Поляки! Сограждане! Послушайте меня. Я не солдат, а офицер. Мы — я и вот эти трое — хотим спрыгнуть с поезда и скрыться, но наша цель — примкнуть к польской армии. Немцы лгут — мы знаем, что наши отважно бьются. Не хотите ли и вы выполнить свой воинский долг, бежать вместе с нами и сражаться за родину?
При первых моих словах люди встрепенулись, потом стали усмехаться, словно слушали бред сумасшедшего. Но чем дальше, тем серьезнее они становились, и многие явно собирались помешать нам. Я замолчал. Вагон зашумел — вскипели споры, одни одобряли, другие возражали. Человек семь-восемь солдат постарше в дальнем конце вагона яростно противились всем моим доводам.
— С чего это мы должны вам помогать? — кричал один из них. — Если вы сбежите, немцы расстреляют всех остальных. А нам самим бежать незачем. Когда мы начнем работать, немцы будут с нами прилично обращаться. Да и вам от побега никакого толку не будет, только хуже станет.
Несколько голосов поддержали его:
— Нет, нет! Не пускайте их! Нас всех расстреляют.
Я всегда считал, что ничто так не подхлестывает оратора, как злость. Нужные слова находились сами собой.
— Вы молоды, — говорил я. — Большинству из вас по двадцать лет, кому-то всего восемнадцать. Неужели вы готовы прожить всю жизнь в рабстве у немцев? Они хотят покорить Польшу и уничтожить поляков. Ведь так они и говорили. Допустим, когда-нибудь вы вернетесь домой. Что скажут ваши родные и друзья, когда узнают, что вы работали на врагов?
Мои противники сразу притихли. Может, я и не убедил большую часть солдат попытать счастья вместе с нами, но удерживать нас они раздумали. Восемь человек все же присоединились к нам. Еще несколько вызвались помочь выпрыгнуть из окошка. Уже достаточно стемнело, чтобы приступить к делу. К тому же пошел дождь, это означало, что мы промокнем и продрогнем, зато уменьшало риск напороться на охранника. Я наскоро объяснил, что надо делать, и мы выстроились перед двумя окошками — по шестеро перед каждым. Первым выбросили Франека. Один ухватил его под руки, другой — под коленки, третий взялся за лодыжки. Мы прислушались — все тихо. Я выглянул наружу, но Франека не увидел. Или ему удалось встать и побежать, или он лежал на земле и был незаметен в темноте под дождем.
Железная дорога петляла по лесу, поезд ехал на малой скорости. Надо было действовать очень быстро. Каждого нового беглеца поднимали, просовывали в окно и выталкивали наружу. Таким образом выпрыгнули уже четверо, как вдруг грянул ружейный выстрел. И сразу мощный прожектор прошелся лучом по всему составу. Мы замерли. Я понял, что стреляли и светили с наблюдательного пункта, устроенного скорее всего на крыше последнего вагона, и крикнул: «Давайте скорее, пока поезд не остановился!» Остановится он или нет? Я надеялся, что немцы не станут менять свои планы ради какой-то горстки беглецов. Так и вышло — поезд шел себе и шел. Помощники выбросили еще четверых — раздались новые залпы. В промежутках между выстрелами вылетело еще двое солдат. Мы услышали, как один из них, упав, крикнул «Иисусе!» и застонал. Из всех, кто хотел бежать, в вагоне осталось только трое. Отступать было поздно. Кого-то вытолкнули из одного окна, меня поднесли к другому. Пара пуль просвистела совсем рядом, а потом меня тоже толкнули, и я полетел по воздуху.