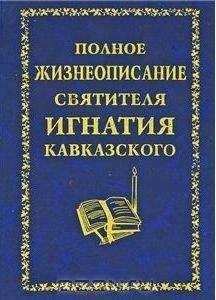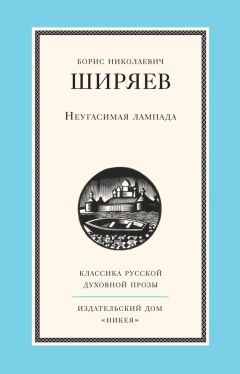Вторая статья: название точное и верное платья носимого до времен гетманских… Еще обстоятельное описание свадьбы, не упуская наималейших подробностей… Еще несколько слов о колядках, о Иване Купале, о русалках. Если есть, кроме того, какие-либо духи или домовые, то о них подробнее с их названиями и делами; множество носится между простым народом поверий, страшных сказаний, преданий, разных анекдотов, и проч. и проч. и проч. Все это будет для меня чрезвычайно занимательно».[46]
На самом деле он пока еще не знал, где и как использует этот фольклорный материал, о котором с таким воодушевлением запрашивал своих родных: то ли в виде сказок, то ли в виде этнографических заметок. В тот момент он его мысли были заняты главным образом тем, как опубликовать привезенные с собой две поэмы: небольшое стихотворение «Италия» и более объемное – «Ганц Кюхельгартен».
Поскольку сразу стать крупным государственным деятелем, благодетелем человечества было невозможно, а находиться на службе с утра до позднего вечера, не отходя от стола, заваленного казенными бумагами, глубоко неинтересно и постыло, ему необходимо было найти какое-то иное применение своим талантам. Делать деньги из своих стихов? В этом нет ничего постыдного! Но к кому обратиться? Он желал быть поддержанным только А. С. Пушкиным, своим кумиром. Рискнув дерзнуть, он отправился к поэту домой. Подойдя к дверям его дома, Николай Гоголь сразу оробел. Тогда он решил заглянуть в кондитерскую и выпить там рюмочку ликера для храбрости. После этого он решается пойти на приступ. На звонок вышел лакей. Открыв дверь, он сказал, что хозяин не может его принять. «Он отдыхает», – сказал слуга. «Ну, конечно же, Пушкин работал всю ночь!», – нервно пробормотал Николай Гоголь. «Ну, как же! – пробубнил слуга. – Они всю ночь играли в карты!» И Николай Гоголь, сникнув, ретировался. Более он никогда не осмеливался предпринять подобный демарш. Для начала он слишком высоко замахнулся. Отправив стихи «Италия» в журнал «Сын Отечества», он скромно попросил его редактора Фаддея Булгарина опубликовать их без упоминания автора. Фаддей Булгарин, являвшийся платным осведомителем полиции, презирал многих своих собратьев по перу, но в то же время пользовался доверием властей. Он удовлетворил просьбу анонимного корреспондента. А 23 марта 1829 года Николай Гоголь, которому на днях исполнилось двадцать лет, уже мог впервые прочитать свои стихи, напечатанные черным по белому в брошюре, изданной в сотне экземпляров. Внизу текста было обозначено: «Без подписи». Никто в прессе не обратил на них внимания, но молодой человек испытал огромную гордость. Легкость, с которой «Италия» вышла в свет, создала иллюзию, что и для «Ганца Кюхельгартена» тоже не будет проблем. На этот раз он решил издаваться самостоятельно. Почти все деньги, которые выслала ему мать, ушли на книгоиздание. Однако в последний момент перед предоставлением текста в печать, его стали обуревать различные сомнения. Он сотни раз перечитывал содержание поэмы, изменял некоторые строчки, исправлял пунктуацию, предвкушал предстоящую славу, но временами неожиданно сникал, предчувствуя возможный провал. Должен ли он выпускать поэму под своим именем, подставляясь в таком случае под критику завистливых журналистов? Не имело ли смысла еще поработать и создать безупречное произведение, которое можно было бы подписать своим именем? Постоянно общаясь со своими друзьями, он, тем не менее, не открылся им в своих намерениях и не пожелал воспользоваться их советами. Никто из них и не ведал о его планах издать «Ганца Кюхельгартена». Все это объяснялось не его робостью, а желанием напустить на себя некую таинственность. Ах, как сладостно было это состояние! Под псевдонимом В. Алов он с осторожностью и лукавством написал предисловие к своей «Идиллии в восемнадцати картинах»: «Предлагаемое сочинение никогда бы не увидело света, если бы обстоятельства, важные для одного только автора, не побудили его к тому. Это произведение его восемнадцатилетней юности. Не принимаясь судить ни о достоинствах, ни о недостатке его и представляя это просвещенной публике, скажем только, что многие из картин сей идиллии, к сожалению, не уцелели; они, вероятно, связывали более ныне разрозненные отрывки и дорисовывали изображение главного персонажа. По крайней мере, мы гордимся тем, что по возможности споспешествовали свету ознакомиться с созданием юного таланта». Разрешение цензуры было получено 7 мая 1829 года, и вскоре Николай Гоголь держал в руках первые экземпляры своего произведения. Он восторженно смотрел на это чудо: настоящая книга, не рукописная, а четко отпечатанная на новой бумаге, с фамилией автора на синей обложке и обозначением цены: пять рублей. Кто знает, может быть, среди сотни тысяч неизвестных читателей найдутся те, кто согласится заплатить эту сумму и оплакать романтическую судьбу героя поэмы? Возможно, станет так, что и сам Пушкин прочтет «Ганца Кюхельгартена» и, очарованный музыкой этих стихов, потребует познакомить его с загадочным Аловым? Подобного рода фантазии настолько разжигали его безумное воображение, что он порой был вынужден брать себя в руки, чтобы и в самом деле не уверовать, что уже является самым близким другом поэта. Терзаемый нетерпением, он время от времени приходил к продавцу, чтобы осведомиться, как идет продажа его книги. Увы! Дни бежали, а стопочка брошюр на полках так и не убавлялась. От Пушкина нет ничего. Пресса тоже молчала. Казалось, что отзывы о «Ганце Кюхельгартене» канули камнем в воду. Однако вскоре критики начали просыпаться. Один из них, Н. Полевой, к авторитетному мнению которого прислушивались многие, написал в своем журнале «Московский телеграф» следующее: «Издатель сей книжки говорит, что сочинение г-на В. Алова не было предназначено для печати, но важные для одного автора причины побудили его переменить свое мнение. Мы думаем, что еще важнейшие причины имел он не издавать своей идиллии».
В «Северной пчеле» появился еще один отзыв: «В „Ганце Кюхельгартене“ столь много несообразностей, картины часто так чудовищны и авторская смелость в поэтических украшениях, в слоге и даже в стихосложении так безотчетлива, что свет ничего бы не потерял, когда бы сия первая попытка юного таланта залежалась под спудом».
Николай Гоголь остро воспринял эти замечания, которые представлялись для него веским поводом для тяжелого переживания. Что стоили теперь насмешки его товарищей по Нежинской гимназии по сравнению с тем, что испытал сегодня? Ах, как он мудро поступил, что выпустил эту поэму под псевдонимом. Хорошо еще, что совсем немногие из его окружения станут свидетелями его провала. Ближайшие друзья его и не догадывались, что они бок о бок общаются с несчастным Аловым. Тот, кто хотел пленить самого Пушкина, совсем вдруг сник, низко пав с высоты. Теперь он был совсем не в состоянии возражать своим критикам. Хотя он все еще пытался дать обоснование каждой строчке, но ни один стих «Ганца Кюхельгартена» уже не казался ему теперь достойным упоминания. Как же пережить этот провал? Радикальное решение не заставило себя ждать. На дворе стоял разгар июля. Санкт-Петербург задыхался от несносной жары, солоноватый запах проникал во все открытые окна. Николай Гоголь взял извозчика и в сопровождении своего слуги Якима проехался по книжным лавкам, чтобы изъять оттуда оставшиеся экземпляры «Ганца Кюхельгартена». Со смешанным чувством ярости и скорби он свалил связанные пакеты в кузов повозки. Естественно, что в этот момент он меньше всего хотел выслушивать расспросы относительно тяготившего его груза. В это время он снимал квартиру вместе с Николаем Прокоповичем в доме Зверькова у Кукушкина моста, а в ней всегда собирались их общие друзья. Ему необходимо было найти уединенное местечко, удаленное от любопытных взглядов. В голове возникла идея снять временно комнату в гостинице на Вознесенской улице. Там вместе с Якимом он разжег в печке огонь и бросил в топку все новенькие книжки, одну за другой, до последнего экземпляра. Страницы загорались неторопливо, коробились, чернели и дымились. И, наконец, возгорелись ярким пламенем. Это горели не только иллюзии автора, это в божественном костре перерождалась его душа. Он еще долго находился под впечатлением этого момента своей жизни. Когда с книгами было покончено, он испытал облегчение, смешанное с легкой грустью.