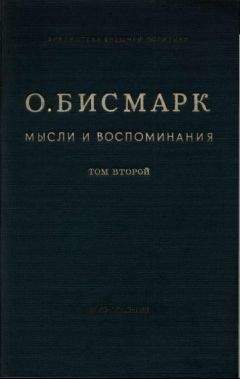Велико было искушение для монарха, который подвергался безмерным нападкам прогрессистской партии и давлению австрийской дипломатии не только на национальной почве Франкфуртского союза князей, но и на польской-со стороны трех великих союзных держав: Англии, Франции и Австрии.
Тот факт, что король в 1868 г. не дал своим глубоко уязвленным чувствам монарха и пруссака возобладать над политическими соображениями, доказывает, как сильны были у него национальное чувство чести и здравый смысл в политике.
В 1866 г. король отнюдь не сразу пришел к окончательному решению вопроса, не следует ли ему собственными силами сломить парламентское сопротивление и предупредить возможность его повторения, как ни вески были соображения против этого. В предстоявшей борьбе временная отмена или пересмотр конституции и унижение оппозиции ландтага оказались бы опасным оружием против Пруссии в руках всех тех, кто остался недоволен в Германии и Австрии успехами 1866 г. В таком случае для противодействия парламенту и прессе необходимо было бы решиться водворить в Пруссии такую правительственную систему, против которой боролась вся остальная Германия. Меры, которые нам пришлось бы предпринять против прессы, не имели бы силы в Дессау[175], а Австрия и южная Германия добились бы тем временем реванша, взяв на себя оставленное Пруссией руководство на либеральном и национальном поприще. В самой Пруссии национальная партия сочувствовала бы противникам правительства. В пределах исправленных границ Пруссии мы могли бы достичь, в государственно-правовом отношении, укрепления королевской власти, но все же лишь при наличии очень оппозиционно настроенных местных элементов, к которым присоединилась бы оппозиция в новых провинциях. Мы вели бы тогда прусскую завоевательную войну, но у национальной политики Пруссии были бы перерезаны сухожилия. В стремлении создать германской нации путем объединения такие условия существования, которые соответствовали ее историческому значению, заключался главный аргумент, оправдывавший «братоубийственную» германскую войну[176]; ее возобновление было бы неизбежно, если бы борьба между германскими племенами продолжалась лишь в интересах усиления обособленного прусского государства (Sonderstaats).
Я не считаю абсолютизм формой правления, которая может в Германии держаться в течение длительного времени или иметь успех. Прусская конституция, если не считать нескольких переведенных из бельгийской конституции статей[177], содержащих громкие фразы, в своем основном принципе разумна. Она располагает тремя факторами — королем и двумя палатами, — каждый из которых может своим вотумом воспрепятствовать произвольным изменениям законного status quo [существующего положения]. В этом и заключается правильное разделение законодательной власти. Если последнюю эмансипировать от публичной критики прессы и парламента, то возрастет опасность, что она уклонится на ложный путь. Абсолютизм Корины так же непрочен, как и абсолютизм парламентского большинства; требование, чтобы любое изменение законного status quo проводилось с согласия короля и парламента, правильно, и нам не нужно было улучшать что-либо существенное в прусской конституции. С этой конституцией можно править, и путь германской политики оказался бы прегражденным, если бы мы в 1866 г. изменили ее. До победы я никогда не заговорил бы об «индемнитете»; теперь, после победы, король был в состоянии великодушно предоставить его и заключить мир, не со своим народом — мир с ним никогда не нарушался, как показал ход войны, — а с той частью оппозиции, которая заблуждалась относительно своего правительства больше из национальных, чем из партийно-политических побуждений.
Примерно таковы были мысли и аргументы, с помощью которых я пытался в течение многих часов переезда из Праги в Берлин (4 августа) преодолеть препятствия, которые оставили у короля собственные воззрения, но в еще большей мере — посторонние влияния и особенно — влияние консервативной депутации. Это осложнялось тем, что с публично-правовой точки зрения стремление к индемнитету казалось королю признанием совершенной несправедливости*[178]. Я тщетно пытался опровергнуть это словесное и юридическое заблуждение, утверждая, что предоставление индемнитета не заключает в себе ничего иного, кроме признания факта, что правительство и его коронованный глава поступали rebus sic stantibus [при наличных обстоятельствах] правильно; требование индемнитета и есть стремление к такому признанию. Конституционной жизни, тем рамкам, которые она отводит правительству, всегда свойственно, что не для всякой ситуации конституция может предписывать правительству тот или иной обязательный для него путь. Король остался при своем отрицательном отношении к индемнитету, мне же казалось необходимым перекинуть — в политическом ли, в словесном ли смысле — золотой мост парламентским противникам, из которых самое большее лишь те, кто образовал позже свободомыслящую партию[179], были настроены злонамеренно, остальные же — просто зарвались. [Это было необходимо] ради того, чтобы восстановить внутренний мир в Пруссии и продолжать германскую политику короля, опираясь на твердую прусскую базу. Многочасовая и очень напряженная для меня беседа, ибо мне все время приходилось подыскивать осторожные выражения, велась мною с королем и кронпринцем[180] в купе железнодорожного вагона. Кронпринц, правда, не поддерживал меня, но мимикой своего подвижного лица он выражал по крайней мере свое полное согласие со мной, укрепляя меня [в моих возражениях] его отцу.
Путем переписки, которую я вел из Никольсбурга с остальными министрами, был составлен проект тронной речи, одобренной его величеством, за исключением фразы, относящейся к индемнитету. В конце концов король нехотя согласился и на нее. Таким образом, ландтаг мог быть 5 августа открыт тронной речью, возвещавшей, что надлежит обратиться к представительству провинций за последующим утверждением правительственных мероприятий, осуществленных без [соответствующего] закона о государственном бюджете. In verbis simus facilesl [будем простыми на словах].
Ближайшей нашей задачей было урегулировать наши отношения с различными германскими государствами, с которыми мы вели войну. Мы могли бы отказаться от аннексий в пользу Пруссии и добиваться компенсации за счет союзной конституции[181]. Но его величество так же мало верил в практический эффект параграфов конституции, как в старый Союзный сейм[182], и настаивал на территориальном расширении Пруссии с тем, чтобы заполнить разрыв между западными и восточными провинциями и обеспечить Пруссии прочно округленную территорию и на тот случай, если бы национальное новообразование раньше или позже потерпело неудачу. При аннексии Ганновера и Кургессена[183] дело заключалось, следовательно, в том, чтобы установить при всех возможных условиях крепкую связь между обеими частями монархии. Препятствия для таможенной связи между обеими частями нашей территории и позиция Ганновера в последней войне[184] снова сделали очевидной необходимость полного сосредоточения в одних руках северного территориального комплекса. Мы не могли вновь подвергать себя опасности иметь у себя в тылу при будущих войнах с Австрией или еще с кем-либо один или два вражеских корпуса хороших войск[185]. Опасение, что когданибудь обстоятельства могут сложиться именно так, обострилось из-за явно преувеличенных представлений короля Георга V[186] о своей миссии и о миссии своей династии. Не каждый день представляется случай предотвратить подобную опасную ситуацию, и государственный деятель, которому события дают возможность осуществить это и который их не использует, берет на себя большую ответственность, ибо международно-правовая политика и право германской нации, в качестве таковой, жить и дышать нераздельным [целым] не могут рассматриваться под углом зрения частно-правовых принципов. Ганноверский король направил со своим адъютантом послание королю в Никольсбург, которое я просил его величество не принимать потому, что нам надлежало руководствоваться не сентиментальной, но политической точкой зрения, а самостоятельность Ганновера и его международно-правовая прерогатива посылать по усмотрению своего суверена в каждом отдельном случае свои войска за или против Пруссии несовместимы с осуществлением германского единства. Одна только незыблемость договоров, не подкрепленная соответствующим могуществом влиятельнейшего из князей, никогда не была сама по себе достаточным условием, чтобы обеспечить германской нации мир и единство в империи.