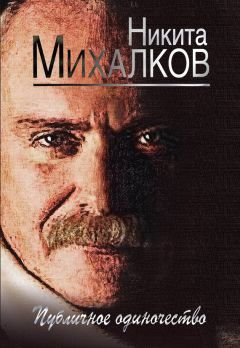Не мучительная и взыскательная любовь, всей своей греховностью переплавляющаяся в чистую духовность, в шедевры творчества, а просто любовь, жаром окатывающая тело от взгляда или и того меньше — от присутствия, закипающая румянцем на щеках, затрудняющая дыхание. Любовь ни для чего, а просто для дальнейшего смотрения в завтра, для обычности. Любовь — начало слияния душ, и — навсегда.
Такая любовь, по моему разумению, была у Татьяны Лариной. Расцвела она на фоне природы («Цветы, любовь, деревня, праздность, поля!»), среди трав и медов, в лоне порхающих ароматов, летящих с ветром, распространяющихся от варений, среди простых до примитивности забот. Вот антураж к ней:
Они хранили в жизни мирной
Привычки милой старины;
У них на масленице жирной
Водились русские блины;
Два раза в год они говели;
Любили круглые качели,
Подблюдны песни, хоровод;
В день Троицын, когда народ,
Зевая, слушает молебен,
Умильно на пучок зари
Они роняли слезки три;
Им квас как воздух был потребен,
И за столом у них гостям
Носили блюды по чинам.
Как незаметно она пробудилась, как завладела ею, как прочно утвердилась в ней, разметав паруса мечтаний, воспламенив воображение… Но о чем? О простой взаимности, или — просто о взаимности, это было все равно, ибо далее этого ничто не простиралось: ни чаяния, ни грубейшие, приблизительнейшие наметки. Дальше, за этим, был только Бог с его велениями. И не приходилось задумываться, подходит ли твоему избраннику та обыденность, в которой ты ждешь его, в которую хочешь позвать. Из тех ли сфер он выходец, о коих тебе грезится; то ли ему мило, что тебе?
Шаг первый виделся простым — взаимность. И это уже мнилось победой. Уже — достигнутой целью. Журавлем в руках.
И что же я нашла в Татьяне? У нее: журавль — перо в руке и сокровенность мыслей на бумаге. Это что? Это еще не шаг. На это многие способны: пишут дневники, даже письма, если не сразу после очищения души летевшие в урну, то хранимые до времени, пока сердце не успокоится и не исцелится от напасти. Пишут и перечитывают, словно поливают взявшийся откуда-то в себе цветок, поверяют тайну о нем подругам-наперсницам — растят. И вот благодаря всему вместе он отцвел, увял, опал, и душа, пережив катарсис, обогатившись опытом, отяжелев от перенесенных страданий, впадает в отдых, возвращается в нормальное состояние.
Это не шаг. Это исцеление.
Шаг — когда пишут и отправляют!
Шаг, потому что риск — риск встретить непонимание, налететь на сердцееда, нарваться на сорванца, ради шалости срывающего солнца, созвездия, гирлянды созвездий девичьих грез; риск получить взаимность с последствиями, но без продолжения — подарил ее и ушел — короткую, взаимность-игру, взаимность-развлечение и отвлечение от скуки; риск попасть впросак и быть осмеянной, ославленной за невоздержанность чувств, запятнанной подозрениями в распущенности мыслей, поступков. Это риск, риск… даже в случае ответа «Тоже люблю». Риск, если возлюбленный столь же опрометчив, безответственен, стихиен. С туманными представлениями о будущем, с иными привычками…
Шаг — всегда риск. Шаг должен быть выверенным и подготовленным — для чего нужен либо опыт, либо врожденный талант, могучая интуиция. И вообще, по мнению большинства людей, рисковать — не девичье дело. Для риска нужны логика, ум и мужество натуры, целиком неженские материи. Зачем людей — предубежденных — шокировать этим, даже если ты ими обладаешь! Зачем раньше срока открывать свои закрома с сокровищами?
Татьяна пишет. И отправляет! Вот ведь где надо выжить, не умерев, вот где мука — ждать ответа!
Но ей несказанно повезло — она попала на благородного человека. И получила отказ-урок — драгоценный опыт.
Победы нет. Есть спасение, чудное, неожиданное, щадящее — щедро отданное. Есть самый лучший итог, на который можно было рассчитывать ей. Владей!
Спасение охотнице дарит дичь — противоестественное дело. Потому что охотница одарена талантом решимости и поступка, но не одарена мерой вещей и их предощущением. И потому что дичь — человек с моралью, не только с природой данными инстинктами. Человек с моралью подправляет нелепости природы, если они возникают в отношениях.
Это было не по мне — так рисковать. Спасибо, Татьяна! Мне урок от Онегина был вовремя и во спасение от всех будущих безумств! И если в более ответственном возрасте я, предощутив цель, не ломилась к ней напролом, а шла, что-то подготовив, где-то подавая знаки о себе иным языком — поведением, внешне пассивной стратегией, тактикой подчеркнутого ожидания, с видом знающего себе цену человека — и добивалась своего, то это было от Пушкина, от его Онегина, от слез Татьяны, от горячего и стыдного провала ее решительности. Я так остро пережила позор Лариной, что ни за что не хотела бы это перенести еще раз, тем более касаемо меня самой, тем более в реальности — вдвойне не хотела.
И Татьяна, слава Богу, поняла все так же — не мстила Онегину, а спасала его из аналогичных трудных ситуаций, той самой холодной водой, отповедью.
Упоенно прочитав «Евгения Онегина», я не возмечтала писать письма направо и налево, а стала той Татьяной, что поумнела, Татьяной сдержанной. Пушкину обязана я чистой юностью, достойной молодостью, счастливым браком и тоном, взятым в жизнь от первого его прочтения — спокойным и рассудительным. Ни у кого из своего окружения я этому научиться не могла — ни у кого! Пушкин научил меня быть счастливой, так тонко и незаметно подведя к мысли, что счастье не в моменте сладкого осуществления капризов, а в умении желать равного и посильного по твоей мере, достигать его без надрыва, сполна отвечать за него и хранить, хранить, хранить…
Нет, ни за что не признаваться первой, не рисковать! Напротив, действовать так, чтобы не поверять, а получать признания от тех, от кого их хочется, — в этом и есть великая тайна искусности, очарования. Не получать отповеди, не раниться о невзаимность, не греть свои раны унижением обидчика, отмщением, не ждать случая поквитаться — не снизойти. От этого раны загнивают, и яд гниения отравляет не только душу, нрав, но и психику, от чего в итоге, если не ложатся на рельсы, то вздергивают себя на ржавом гвозде.
Вот так и получилось, что при всей искренней любви к Пушкину мне не всегда безоговорочно нравились его положительные герои. Не желая превращать эти воспоминания в критику себя или литературы, на которой я училась, ограничусь замечанием, что и время жизни Пушкина мне представлялось внутренне чуждым, и окружение его не привлекало ни культурным уровнем, ни интеллектом. Порой я испытывала обиду за то, что ему выпало жить в настоящем узилище — пустом, лишенном достойных целей мире. Он родился в предпоследний год восемнадцатого века и прожил в его атмосфере, по инерции прихваченной веком новым. Восемнадцатый же век хоть и был, по словам Радищева, столетьем безумным и мудрым, то есть временем живым, горячим, разорванным противоречиями, но так о каждом времени можно сказать. А оглядываясь, мы видим, что на фоне последующего он являлся некоей заводью, неким голубовато-розовым миром, населенным пудреными париками, красными каблуками, атласными кафтанами и учтивым менуэтом, иначе говоря — театром. Да, международные интриги, да, масоны и декабристы внутри России! И тем не менее…