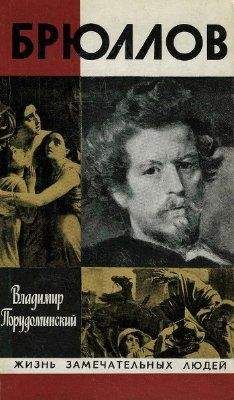После чая Карл спешит к портретам. Тут и там быстро касаясь кистью холста, еще раз проходит портрет Петра Андреевича. Вчера все уверяли его, что портрет совершенно закончен, что дальше трогать — только портить, он и сам было в том уверился, но утром, едва взглянул, тотчас ощутил почти не объяснимую рассудком необходимость положить мазок-другой. Карл распахнул окно: в сверкающей водной рябью высокой листве, в шелковистом переливе травы, в яркости красных и белых цветов, в густой желтизне посыпанных песком дорожек радуется доброе летнее утро, на сердце у Карла тепло, он чувствует, как сердечное это тепло замешивает в краску и переносит кистью на холст.
Золотая медаль при выпуске из академии давала право на заграничную командировку с пенсионом. Открывалась возможность посмотреть творения великих мастеров и посмотреть самостоятельно. Тут всякий себя раскрывал: у одного знакомство с великими образцами воспламеняло искру собственного творчества, другой, понахватав чужих приемов, возвращался с чем уехал — привозил из дальних краев ту же академическую программу, только покрепче, поладнее сработанную. Поездка за границу приносила несколько лет свободы: в Петербурге бери заказы, пиши образа, бегай по урокам или пристраивайся к какому-нибудь художественному ремеслу, а тут на то и пенсион платят, чтобы творил. Пенсионер академии, пейзажист Сильвестр Щедрин писал из Италии (как раз незадолго перед выпуском Карла Брюлло): «В Петербурге что бы я был? — Рисовальный учитель, таскался бы из дому в дом и остался бы в одном положении, ни мало не подвигаясь вперед, а еще ползя взад, как рак».
В Европе было неспокойно.
Поздно вечером 13 февраля 1820 года герцог Беррийский, племянник короля Людовика Восемнадцатого, покинул зал парижской Оперы, едва дождавшись конца спектакля, — герцогине нездоровилось. Подъезд театра был ярко освещен — фонари желтками висели в туманной измороси. К подъезду непрерывной вереницей подкатывали экипажи, на тротуаре густо теснились зеваки, жаждавшие увидеть королевский двор и знатнейших персон государства. Герцог усадил супругу в карету и собрался сесть рядом, но в эту минуту из толпы вышел человек и ударил герцога длинным ножом в правый бок. Он оказался неким Лувелем, седельником. В Петербурге передавали, будто седельник схватил при этом герцога за шиворот. Лувель надумал убийством положить конец династии Бурбонов. Передавали также, будто герцог, умиравший на простой кровати в комнате театральной администрации, великодушно просил помиловать убийцу, но его казнили, конечно.
Несколько месяцев спустя вспыхнул военный бунт в Неаполе. Во главе его стояли деятели тайных обществ, называвшие себя карбонариями — угольщиками. Они призывали народ «очистить лес от волков» — на их условном языке это значило освободить отечество от тиранов. Восставшие солдаты под рукоплескания толпы шли по Неаполю, нацепив кокарды трех карбонарских цветов — красного, черного и синего.
Австрийские войска наносили удары неаполитанской армии, когда поднялся Пьемонт. Начали, как нередко случается, студенты, солдаты к ним присоединились, народ требовал конституции, карбонарии захватили цитадель в Турине и подняли над ней национальное знамя.
В те же дни однорукий Александр Ипсиланти, греческий князь и генерал-майор русской армии, во главе отряда из восьми сотен всадников переправился через Прут и выступил в поход против турецкого владычества. Отряд Ипсиланти был скоро разбит, но брошенная искра подожгла порох — пламя восстания распространялось шумно и быстро и скоро охватило Грецию.
В Испании офицер Рафаэль Риего двинулся со своим батальоном по Андалузии, провозглашая конституцию, поднять восстание ему не удалось, с горсткой в сорок пять человек, оставшейся от отряда, он удалился в горы, но и для этой искры был готов порох: города один за другим высказывались за конституцию, толпы восторженных мадридцев поспешили разгромить здание инквизиции.
Европейские события имели сильное влияние на молодых людей в России, укрепляя их в республиканском и революционном образе мыслей.
Века шагают к славной цели —
Я вижу их, — они идут! —
Уставы власти устарели:
Проснулись, смотрят и встают
Доселе спавшие народы.
О радость! грянул час, веселый час свободы! —
изливал свои чувства в стихах пылкий Вильгельм Кюхельбекер.
Сопрягая европейские события с тощим академическим бюджетом, президент Оленин предложил медалистам взамен немедленной заграничной командировки остаться еще на три года в академии для дальнейшего усовершенствования.
Карл Брюлло обещал подумать. Пошел думать в мастерскую к профессору Угрюмову Григорию Ивановичу. Григорий Иванович, человек несказанной доброты, умел радоваться чужим успехам и встречал Карла объятиями. Сам Угрюмов писал картины исторические. Для Михайловского замка исполнил он два громадных полотна: «Взятие Казани» и «Избрание Михаила Федоровича на царство». Но Карл из угрюмовских работ всего больше любил «Испытание силы Яна Усмаря». В летописи нашел Григорий Иванович рассказ про юношу кожемяку, победившего в единоборстве печенежского силача, был же тот печенег превелик зело и страшен. Но сначала князь Владимир устроил молодому бойцу испытание — заставил сразиться с могучим быком. Когда разъяренный зверь мчался мимо, Ян Усмарь схватил его за бок и вырвал кожу с мясом. Карл любил напряженную композицию, очень точно найденную Угрюмовым, горячность красно-коричневого колорита, мощную красоту героя, которого называли русским Геркулесом.
Григорий Иванович последнее время недомогал, но всякий день приходил в мастерскую, садился в кресло, рядом на столике лежала палитра, ящик с красками был открыт; Угрюмов брал в руку сразу несколько кистей и рассматривал стоящий перед ним холст с начатым портретом. Так сидел он час и другой, как бы прицеливаясь, но сил встать и начать работу не хватало, Григорий Иванович со вздохом клал кисти на столик, звал учеников и, убегая от дурных мыслей, поправлял их работы или вел с ними долгие беседы.
Карла поразила серая, лишившаяся блеска кожа его лица, глубокие черные тени внезапных морщин и белые валенки на ногах профессора вместо обычных щеголеватых, обтягивающих икры лаковых сапожек. Карл сказал, что, коли решено не пускать их за границу, он тужить не станет, но и время не намерен зря терять: посему решил немедля браться за картину из отечественной истории, и просит Григория Ивановича быть его наставником. Григорий Иванович усадил его напротив, стал расспрашивать о теме. Карл отвечал, что рисовал недавно Димитрия Донского, отдыхающего на Куликовом поле, и Ермака Тимофеевича; в «Летописи Сибирской», для издания которой предназначен гравированный портрет Ермака, можно найти замечательные сюжеты. (Александр Бестужев раззадоривал его историей Пскова и новгородской вольницей, но об этих сюжетах Карл решил до поры смолчать.) Григорий Иванович притянул Карла к себе и поцеловал: грош цена, сказал, будет Карлу Брюлло, если он в исторических работах его, Угрюмова, не превзойдет.