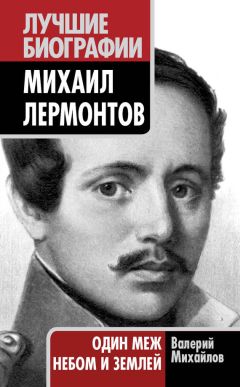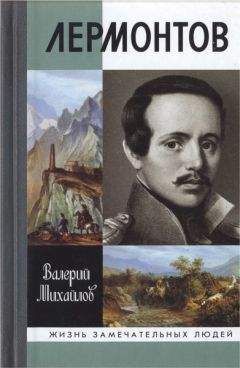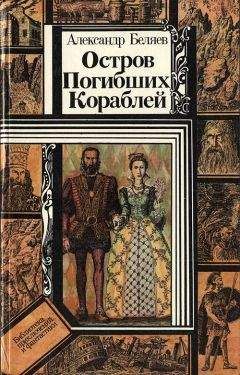Он вспоминает вершины диких гор, свежий час заката, всю волю первозданной природы — и весь, без остатка растворяется в ее гармонии, в пережитом, в той полноте ощущений, где, сама собой, вдруг поражает мысль о вечности.
Кто близ небес, тот не сражен земным.
Но тут же, следом:
Так жизнь скучна, когда боренья нет.
Его могучей натуре — потребна борьба, потребно действие:
Мне нужно действовать, я каждый день
Бессмертным сделать бы желал…
……………………………..
И все боюсь, что не успею я
Свершить чего-то! жажда бытия
Во мне сильней страданий роковых…
Но человек, а тем более молодой, во всей жизни своей то встает, то падает: то воспаряет душой, то низвергается… И в душевных сумерках, во мрачности, в «усыпленьи дум»
Жизнь ненавистна, но и смерть страшна.
«Смерть страшна» — редкое, едва ли не единственное признанье у Лермонтова, хотя понятно, что страшится он не столько физического исчезновенья, сколько того, что исчезнет, не свершив назначенного, не став на земле вполне самим собой:
Находишь корень мук в себе самом,
И небо обвинить нельзя ни в чем.
И новое признанье:
Я к состоянью этому привык,
Но ясно выразить его б не мог
Ни ангельский, ни демонский язык:
Они таких не ведают тревог,
В одном все чисто, а в другом все зло.
Лишь в человеке встретиться могло
Священное с порочным. Все его
Мученья происходят оттого.
Богом данную свободу воли, противостояние, противоборство греховности и святости в человеке, Лермонтов ощущает в себе, как никто другой.
И еще одно открылось ему:
Я предузнал мой жребий, мой конец,
И грусти ранняя на мне печать;
И как я мучусь, знает лишь творец;
Но равнодушный мир не должен знать.
И не забыт умру я. Смерть моя
Ужасна будет; чуждые края
Ей удивятся, а в родной стране
Все проклянут и память обо мне.
…………………..
Кровавая меня могила ждет,
Могила без молитв и без креста…
Это уже из туманной области пророчеств — и все они, увы, сбылись почти в точности…
И чудится поэту дикий берег, небо, пустота, камень у могилы; случайный чужестранец присел на него и невольно сожалеет о погибшем…
…………..Сладость есть
Во всем, что не сбылось…
Пожалуй, всякий, кто искал или видел в этом стихотворении «литературу», «влияние Байрона», — конечно же, находил искомое да и, кроме того, обнаруживал несовершенство формы, стиля и языка. Но вот понял ли он, критик, главное — что пламя потому и пламя, что не имеет застывшего облика?
«Поток сознания» юного гения — словесное пламя, само пламенное вещество: словно пылающие языки огня вырываются из глубины души: это острейшие ощущения своей сущности, прозрения и предощущения своей судьбы, пророческие по сути. Все это — не совсем литература; оно — то живое и горящее, что и составляет душу в иные ее мгновения.
5
Ранняя лирика Лермонтова и его первые поэмы, что и говорить, еще далеки от совершенства и, по общему мнению, уступают юношескому творчеству Пушкина.
Признаться, я обычно пробегал эти стихи, редко останавливаясь на чем-то, а то и вовсе пропускал, спеша к любимым, не раз читанным, где все отточено, ясно и просто — и в то же время напоено тайной, чувством, глубиной и необъяснимой притягательностью.
Раннее же, все эти перепевы, байронически-пушкинская театральщина, с ее жестами и фразами и прочей атрибутикой романтизма, казалось мне чересчур многословным монологом, порой неряшливым по форме, с не отбродившей брагой языка и мысли, — и ни в какое сравнение не шло с вершинными творениями Лермонтова. Но ведь это был, как я понял потом, общепринятый тогда в литературе способ выражения, — и каким бы еще языком изъяснялся в стихах юноша, только-только начинающий свой путь?..
Поразительно, как быстро Лермонтов освобождался от этих ходулей романтизма, спускаясь на землю; поразительно, какое верное чутье вело его от литературщины к себе настоящему.
Юношеская дневниковая запись: «(1830) Наша литература так бедна, что я из нее ничего не могу заимствовать; в пятнадцать же лет ум не так быстро принимает впечатления, как в детстве; но тогда я почти ничего не читал. Однако же, если захочу вдаться в поэзию народную, то, верно, нигде больше не буду ее искать, как в русских песнях. Как жалко, что у меня мамушкой была немка, а не русская — я не слыхал сказок народных: в них, верно, больше поэзии, чем во всей французской словесности».
Тогда же, в пятнадцать лет, он набрасывает впервые свое бородино — «Поле Бородина». Это пока только намек на то, настоящее «Бородино», что появится семью годами позже, это пока описание, не окрашенное личным чувством, но герой-рассказчик уже найден: простой солдат, участник битвы, — и несколько строк из юношеского наброска потом перейдут в окончательный текст:
«Ребята, не Москва ль за нами?
Умремте ж под Москвой,
Как наши братья умирали».
А из банального, в духе романтизма, стихотворения «К Д.», 1831 года, — вернее, из одной только его строфы:
Есть слова — объяснить не могу я,
Отчего у них власть надо мной;
Их услышав, опять оживу я,
Но от них не воскреснет другой… —
от этого темного, шероховатого алмаза, где верно схвачено глубокое и новое впечатление, впоследствии разве не выточится неповторимый — на все времена — бриллиант:
Есть речи — значенье
Темно иль ничтожно,
Но им без волненья
Внимать невозможно.
В «Балладе» (1831), где «юная славянка» поет над детской люлькой колыбельную — увы, пока еще общими словами, хоть едва-едва, но просвечивает уже прообраз гениальной и чисто народной «Казачьей колыбельной».
Юношеское творчество Лермонтова — живая стихия, несущая могучего духом гиганта, богатыря, растущего не по дням, а по часам: там еще совершается кристаллизация слова, там будто бы творит сама поэтическая природа, по ходу находя своим созданиям единственно возможные, совершенные очертания. Недаром Лермонтов смолоду не любил подпускать к своему творчеству, к своей мастерской никого. В юнкерской школе тайком пробирался в отдаленные классные комнаты и допоздна просиживал там, сочиняя стихи. От любопытных товарищей отделывался чтением шуточных стихотворений, и лишь очень немногим и редко показывал настоящее. Никому не давал списывать своих стихов.