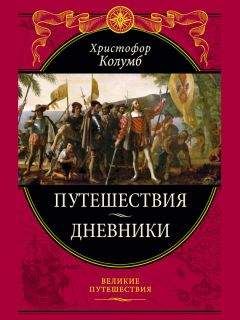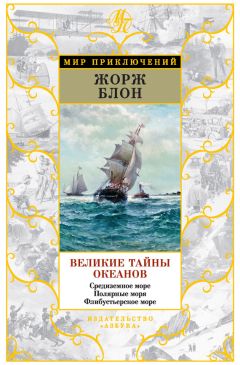Венский двор с давнего времени желал иметь военный порт, искал средств, дабы что-нибудь значить в числе морских держав. Политика его постоянно стремилась к утверждению своего могущества силой флота и внешней торговлей; но прекрасное сие предположение, по обстоятельствам, долго оставалось без исполнения. Наконец императрица Мария Терезия решилась воспользоваться выгодным положением Триеста, который был тогда небольшой город. В 1750 году положено в нем основание корабельной верфи; построены магазейны для складки товаров, казармы, гошпиталь; выданы великие суммы для сооружения укреплений и других общественных зданий; и в короткое время австрийский флаг явился на Средиземном море и возвестил о существовании Триеста. В царствование Иосифа II город объявлен вольной гаванью; множество иностранных и австрийских купцов со значительными капиталами поселились в нем. Произведения южной Германии, Леванта, Египта, Италии и Сицилии обратились к нему, обогатили и украсили его; и Триест сделался опасным соперником Венеции, которой торговля с сего времени начала упадать.
Залив, образуемый мысом Салвора (что в Истрии) с одной, а венецианским берегом с другой стороны, называется Триестским. Город лежит в самом углу Адриатического моря, по наблюдению, учиненному в 1806 году генералом бароном Цахом, в широте 45 град. 38 мин. 8 сек., и 11 гр. 26 мин. 56 сек. долготы восточной, считая от Парижского меридиана. Построенная на отмели каменная насыпь[112], с батареей на краю оной, примыкающая к старому карантину, мало прикрывает гавань от морских ветров, которые разводят в оной неправильное волнение, причиняющее немалые убытки. Не проходит года, чтобы сильными юго-западными ветрами не разбило от 20 до 30 судов. Бора, по причине высоких гор, окружающих Триест, дует прямо с берега с такой ужасной силой, что, несмотря на малую глубину и твердый грунт, корабли иногда срывает с трех якорей и ломает мачты. В зимнее время боры продолжаются по две недели сряду, и хотя по чрезмерной жестокости сего ветра волнения в гавани не бывает, но поверхность моря покрывается седой пеной, брызги, срываемые с воды, несет в высоту на три сажени. В окрестностях Триеста ветер сей причиняет ужасные опустошения, в городе срывает крыши с домов, на улицах опрокидывает экипажи. Новый карантин, или иначе Санта-Тереза называемый, определен для судов, приходящих из зараженных чумой мест. В бассейне, разделенном на три части, не более 20 кораблей помещаться может; глубина его три сажени, а ворота для входу в оный очень узки. В канале, находящемся посреди города, глубины две сажени; в оном суда нагружаются и разгружаются. Несколько пушек, поставленных на моле старого карантина и вокруг бассейна нового, защищают город и гавань с морской стороны. Два ветхих укрепления, называемых цитаделью, построенных на крутом холме над самым городом, не могут ни себя, ни город защитить, ибо подле цитадели есть высоты, господствующие оной, а город почти кругом открыт. Смотря на укрепления Триеста, сказать можно, что оные построены для одного вида.
КарантинСколь приятно переходить из страны в страну, столь иногда и малое препятствие огорчает нас. С крайним нетерпением считали мы минуты, когда придем в Триест; пришли – и могли только на него смотреть. Лишь бросили якорь, карантинный чиновник с консулом нашим г. Пеллегрини объявили нам неприятную весть, что мы должны целые три недели сидеть в карантине и ни с кем не сообщаться. Канонерская лодка, защищавшая брандвахтенный пост, к нам приблизилась; сторож, называемый здесь гвардиано, взошел на судно, приказал шкиперу ввести оное в бассейн, а нам с людьми перебраться в старый лазарет. Мы повиновались и тотчас начали перевозиться. На первом дворе, куда нас ввели, было довольно народу, но все от нас бегали; сам наш гвардиано отчаянным криком напоминал, чтобы мы не приближались к чужим людям. Это сначала нас забавляло, а потом крайне наскучило, ибо ходили за нами, так сказать, по пятам; малейшее движение замечали и ни на одну минуту не упускали из виду. Карантинный начальник просил нас убедительнейше с терпением покоряться карантинному уставу, ибо за малейшее упущение нарушивший закон подвергается лишению жизни. В самом деле, что может быть ужаснее чумы? От одного зараженного не только город, но целое государство может пострадать; от единого прикосновения могут погибнуть тысячи народа. Посему чрезмерная осторожность и строгость есть в сем случае благоразумна.
В 1812 году, по справедливости названном годиной испытания, когда любезное Отечество наше терзаемо было лютыми врагами, в то самое время, когда Москва занята была французами, в Одессе и Феодосии открылась чума. Служа тогда в Черноморском флоте, я был, по несчастью, свидетелем и очевидцем печальных следствий сего бича человеческого рода. Язва постепенно заражала все члены тела, знаки ее были ужасны, распространение скорое, следствия почти всегда смертельные. Человек, получивший заразу, сначала чувствует тошноту, кружение головы, потом начинается рвота, тело покрывается красными пятнами, которые скоро чернеют, и когда в пахах покажется карбункул («Черный чирей»), тогда уже во внутренностях существует антонов огонь и смерть неминуемо последует. При первых припадках человек лишается рассудка, душа теряет свои силы, тело же, кажется, получает от того новые, и больной, совершенно расслабленный, переносит жесточайшие мучения. Сильные судороги, рвота, непрестанное икание, бессонница терзают больного. Но это еще не все: несносный жар сжигает их внутренность; с воспаленными навыкате глазами, стесненной грудью, помертвелым лицом, издавая зловонное дыхание, с запекшейся на устах нечистой кровью, отчаянным воплем требуют они воды, льда и, не возмогши утолить палящей их жажды, в исступлении рвут одежды, грызут зубами тело свое и в бешенстве валяются по земле. Большая часть умирала в пятый или седьмой день, иные чрез одни или двое сутки, а некоторые в три или четыре часа. Слабое утешение тому, кто выздоравливал от сей болезни; он представлял взору несчастный только остаток самого себя. Анатольцы, вызвавшиеся лечить больных, без боязни ходили по лазаретам, лечили разными средствами и замечено, что одно лекарство производит действия спасительные и вредные; многие зараженные были, однако ж, ими возвращены к жизни, и ни один из сих великодушных людей не погиб. Когда оказались явные признаки чумы; когда город окружен был военной стражей и прекращено сообщение с окрестностями, никаким пером невозможно описать ужаса, объявшего жителей. При начале видимы были достойные подражания примеры материнской нежности, детской привязанности и великодушных пожертвований. Из многих я приведу только один. Полковник Ребок, приметив на ребенке своем знаки заразы, спешил подать ему помощь, вымыл его уксусом, употребил все другие предохранительные средства; но скоро почувствовал и сам припадки. Он объявил о том полиции, заперся в своей комнате, затопил печку, сжег свое платье и все принимающее заразу, и на другой день умер. После такового печального опыта, лишь только в каком доме оказывалась чума, тотчас полицейские служители, вымазанные дегтем и в кожаных платьях, разделяли здоровых от больных и под сомнением находящихся. Может ли быть что жалостнее, когда дитя отрывали от груди матери, сына отлучали от отца, и почтеннейшие узы не были уважаемы. Было много трагических и чувствительных явлений. Здоровые одни запирались в домах, другие жили за городом в палатках и землянках. Город обратился в пустыню; некоторые дома сожгли, у других выбиты были окна, никто не смел выйти на улицу и страшился встретиться с другом. Одна бедная чернь раздирающим голосом требовала пищи. В сии несчастные дни умирающему некому было закрыть глаза, и жестокая смерть не извлекала уже более слез.