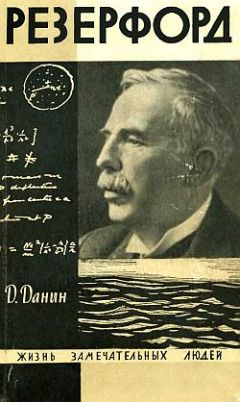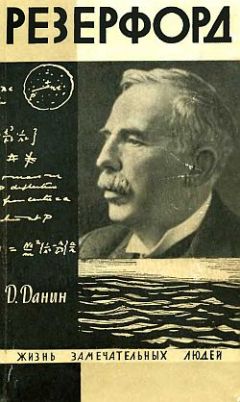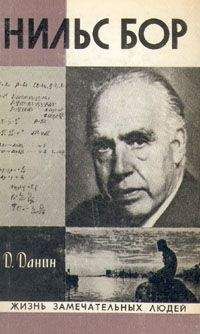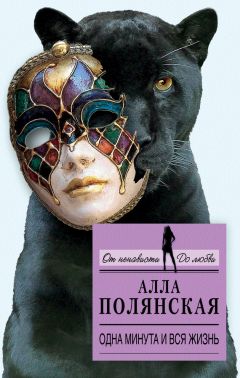…Часто, когда у него бывала домашняя литературная работа, он захватывал ее с собою к Эйлин. И если она лежала, усаживался в ее комнате за столом и, посматривая на нее с молчаливым вниманием, писал или правил гранки. Там прочитал он придирчивым глазом немало полос выходившей в том году толстенной книги «Излучения радиоактивных субстанций», написанной им вместе с Чадвиком и Эллисом. И объяснял Эйлин, что это, в сущности, энциклопедия радиоактивности и экспериментальной атомно-ядерной физики. И потому надо в нее добавлять все новые и новые данные, только что найденные разными исследователями. И досадовал, что у Коккрофта с молоденьким дублинцем Уолтоном еще не наладилось ускорение протонов: как хорошо было бы рассказать о такой принципиально важной новости в этой солидной и прочной книге!
Но чаще он не мучил Эйлин учеными материями, а рассказывал ей всякие небылицы.
…В конце октября он даже не поехал в Брюссель на 6-й Сольвеевский конгресс, где его очень ждали. Но дабы он знал, что там помнили о нем и сожалели об его отсутствии, участники конгресса послали ему 25 октября приветственную открытку. Собиратели автографов, наверное, никогда не снимали такого урожая со столь малой площади: там были подписи Эйнштейна, Бора, Ферми, Дирака, Паули, Марии Кюри, Ланжевена, Гейзенберга, Зоммерфельда, Хана, Дебая, Крамерса, Зеемана, Ричардсона, де Хааза, Пиккара и других знаменитостей. Он показывал эту открытку Эйлин, и они гадали, чьей рукой написаны «наилучшие пожелания…». После маленького спора согласились, что это была рука Дирака.
…Он разрешал себе только короткие наезды в Лондон: прочесть лекцию или провести недолгое заседание в Королевском обществе, где его президентские полномочия подходили к концу. Хотя они давно стали для него докукой, он отправлял их с неизменной энергией, восхищая ею даже вечного своего оппонента — старого химика Армстронга. «Вы смогли возродить к жизни мертвое тело…» — написал ему тот однажды.
Под занавес он старался извлечь из ресурсов Королевского общества максимум возможного для Кавендиша и Кембриджа. И веселил Эйлин рассказами о своих дипломатическо-финансовых победах в Барлингтон-хаузе.
После одной из таких побед он отправился навестить Эйлин, не заходя домой, прямо с вокзала. Было 2 декабря — приближался ее срок. Он заметил, что она уже начала поглядывать на окружающих тихо-удивленными глазами: «Господи, кто они и что их заботит?» Ему это было трижды знакомо — такой взгляд он ловил у нее перед рождением и Пита, и Бэтси, и Пата. Он был в прекрасном настроении и пустился в свои рассказы. И не мог остановиться, хотя читал ее удивленную мысль: «Господи, дэдди, как ты можешь радоваться такому вздору!»
А он радовался, что вчера ему удалось провести в Королевском обществе важное решение: из средств, завещанных обществу в 23-м году д-ром Людвигом Мондом, 15 тысяч фунтов будут даны на возведение в Кембридже новой физической лаборатории специально для Петра Капицы. В ней во весь возможный размах развернутся работы по сверхсильным магнитным полям и сверхнизким температурам. И то и другое, вместе взятое, откроет новые пути перед атомной экспериментальной физикой. (То был его победоносный аргумент перед коллегами в совете Общества.) А вообще он готов был немедленно согласиться, что все это ничтожный вздор рядом с предстоящим появленьем на свет новой маленькой жизни.
Не то чтобы он тревожился за Эйлин — для этого не было оснований, — он просто жалел ее, потому что очень любил. Все двадцать девять лет ее жизни она почему-то чудилась ему существом беззащитным. Может быть, потому, что он видел: природа не наделила ее такой же силой и неуязвимостью, какие дала ему. Однако между ними было одно глубинное сходство, и он радовался, когда открыл его: она тоже была человеком безошибочных предчувствий и безотчетной проницательности — человеком верного инстинкта и независимой воли. Он любил рассказывать, как она однажды поставила в тупик учителя химии, задавшего хлопотную задачу по качественному анализу: «А если я угадаю правильный ответ, вы освободите меня от опытов?»
Она была его дочерью — в ней жило резерфордовское начало. Он это чувствовал, замечал и любил.
…После 14-го он вздохнул с облегченьем. И снова вовсе не оттого, что раньше тревожился. Просто осталась позади неизвестность. И он был счастлив, что в четвертый раз стал дедом. И счастлив был, что с Эйлин все в порядке — в полном и совершенном порядке. И вдруг…
Это было как удар в сердце.
Тромб! И смерть.
«Не может быть!»
«Не может быть…»
Это было единственное, что повторял в тот несчастный день и бедняга Фаулер («Один математик, ты его не знаешь, дэдди»). Оба тяжелые, большие, еще нерастраченно сильные и какие-то ненужно сильные перед ее тенью, они громоздились в занавешенной комнате, и то, как дети, зачем-то брались за руки, то упирались, как слегами, друг в друга глазами — покрасневшими, непонимающими. И этими тягостными взглядами, как слегами, подпирали друг друга. И молчали.
Потом они стали думать о четырех маленьких существах, оставшихся им в наследство и в утешение. «Это все, что мне осталось теперь, это все…» — думал Резерфорд.
В те часы и дни он забыл о своем океане.
Слышал его зов, но не откликался. Не мог.
Он любил своих внуков и внучек отчаянной дедовской любовью, усиленной их внезапным сиротством. Достаточно присмотреться к фотографии, на которой он ведет за руки Элизабет и Пата, чтобы понять: они могли делать с ним все, что угодно. Видно сразу: с ними он терял свою независимость.
А они его любили за силу и веселость, за естественность и сговорчивость, за громадный голос и надежную справедливость. Но, может быть, всего более за то, за что его вообще любили дети: он явно был из их племени — он был для них навечно «свой». К возрасту это отношения не имело.
…Как-то его пригласили в шекспировский Стрэтфорд-наЭвоне посмотреть «Виндзорские кумушки». Боясь, что его зовут на скучное светское развлечение, он отнекивался как мог: «Я только покажу мое чудовищное невежество. Знаете, уже сорок лет меня пытаются цивилизовать, и вы видите, с какими плачевными результатами!» Но в театре, с первой минуты, он начал радоваться происходящему на сцене так пылко, так аплодировал (произнося иные реплики Фальстафа раньше, чем они раздавались из усг актера), что весь зал принялся увлеченно следить за ним (особенно дети), крича и аплодируя ему в подражанье.
…Выл случай, когда ему чуть не повезло в карты. Он играл плохо — порывисто и нерасчетливо. Но неудачи относил за счет фортуны. А тут обнаружил, что ему пришла прекрасная карта. Однако сразу же выяснилось, что у одного из его партнеров — а ими были Капица, Коккрофт и еще кто-то третий — карты сильнее и масть старше. Была назначена высокая игра. Ему бы спасовать, но он сердито рявкнул: «Дабл!» («Удваиваю!»). Партнер не остался в долгу, тем более что ничего не терял. Без размышлений сэр Эрнст крикнул: «Ри-дабл!» И пошло… Вся штука в том, что он не мог уступить. Не мог — и все! Ругал партнера с небывалой даже в его устах виртуозностью, но сдаться не хотел. И не сдался! Проиграл кучу денег, но переспорить себя не дал. И выигравшие чувствовали себя неважно — как взрослые, надувшие младенца.