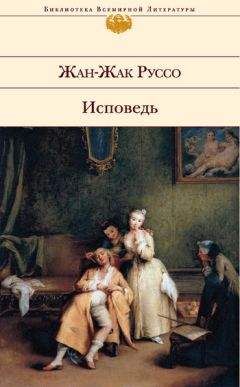И его приятель Суворин удостаивал меня в печати своих выходок, не менее злобных и бранчивых.
Эта травля вызвала один пикантный эпизод из моей тогдашней еще холостой жизни. Я получил французскую записку от какой-то анонимной дамы, которая просила меня приехать в маскарад Большого театра. Она была заинтересована тем, что меня так травят эти два петербургских остроумца. Но она назвала их первыми слогами их фамилий, и по-французски это выходило так: «Bou et les Sou». Но намерение ее было поиграть над этими слогами, чтобы вызвать во мне представление о boue, то есть грязи, и о sou, то есть медном гроше.
Сезон и тогда, в общем, носил такую же физиономию, как и в последнюю мою зиму 1864–1865 года: те же театры, те же маскарады в Большом, Купеческом и Благородном собрании, только больше публичных лекций, и то, что вносил с собою оживляющего Клуб художников, где я позднее прочел три лекции о «Реальном романе во Франции», которые явились в виде статьи у Некрасова.
Тогда и о Флобере знали еще у нас очень немного, а тем паче о менее крупных талантах. Но интерес к французской драматургии поддерживал Михайловский театр, где опять сложилась очень хорошая труппа, которую украсила собою новая любимица публики, Паска. Ее соперницей была Деляпорт, тоже когда-то ingenue театра «Gymnase», имевшая уже в петербургской барской публике множество поклонников и даже поклонниц.
С Паска я тотчас же возобновил парижское знакомство, стал у нее часто бывать и у нее сошелся главным образом с Адольфом Дюпюи и с четой Вормсов.
У Паска бывали журфиксы по пятницам. Она приглашала к себе и запросто пообедать вместе с ее товарищами по сцене. Жила она в доме на Михайловской площади, против сквера, на углу Итальянской, со стороны Екатерининского канала. И Дюпюи приглашал к себе пообедать в меблированные комнаты на Невском, против Гостиного, кажется и теперь существующие.
В Петербурге он и развился в прекрасного жанрового актера для комедии. Единственный его недостаток был скороговорка, от которой он так и не мог отрешиться. В Париже, куда он позднее переселился, он сейчас же был оценен как первоклассный актер, сделался украшением театра «Vaudeville», первым его сюжетом и потом даже содиректором.
У себя дома он был гостеприимный хозяин, всегда веселый и остроумный, без актерской хвастливости и позы. Тогда он уже руководил любительскими спектаклями в Аничковом дворце у наследника (впоследствии Александра III), и в его труппе первым комиком был И. А. Всеволожский, попавший в новое царствование в директоры императорских театров.
Вормс — первый любовник, который брал темпераментом, умной, нервной игрой, — в жизни не был занимателен и держался слишком серьезного тона. Но он, не в пример своим товарищам, один выучился читать и писать по-русски. И он доразвил свое дарование в Петербурге, и сразу в Париже попал в сосьетеры «Французской комедии».
То, что я не был фельетонистом в петербургский сезон 1871–1872 года, хотя и жил очень бойкой жизнью, оставляло мне более досуга для работы над романом, который я начал с осени.
Это были «Дельцы». Я их задумал в обширных размерах. Тогда редакции не боялись больших романов и охотно брали их, даже и от начинающих писателей. А я тогда был писателем уже около десяти лет, действовавшим как романист с января 1862 года, когда стал печататься «В путь-дорогу». Я решил, что «Дельцы» будут иметь четыре части, или «книги», как я любил тогда называть, по десяти листов в каждой. Не предвидел я, что работа над этой вещью так затянется из-за моего нездоровья и, начатая в октябре 1870 года в Петербурге, будет кончена в начале 1873 года за границей.
Некрасов после «Солидных добродетелей» стал мне платить по 100 рублей за лист с рассказа «Посестрие». Такой гонорар считался тогда очень хорошим. Его получала такая писательница, как Хвощинская, когда я издавал «Библиотеку» еще в половине 60-х годов. Из молодых моих сверстников самый талантливый — Глеб Успенский вряд ли и тогда получал значительно больше.
Тогда я еще прибегал и для беллетристики к диктовке. Так и «Дельцов» я начал диктовать одной барышне-москвичке, рекомендованной мне А. Н. Плещеевым.
Вопрос о моей «диктовке» сделался в нашей биографической литературе своего рода легендой. И я хочу здесь еще раз поговорить об этом. До сих пор преобладает мнение, что я всегда и все диктовал — до последних лет. Это неправда.
Я уже имел случай касаться выше этой легендарной версии и здесь вкратце подведу итоги моей диктовке.
Статьи и книги я почти всегда диктовал, до самых последних лет, когда жил в России; но за границей не диктую газетных и журнальных статей никому и нигде, а их набралось бы за двадцать лет несколько томов. Беллетристические вещи, романы и повести я диктовал только до 1873 года, и то не все. Продиктованы были некоторые части «В путь-дорогу», «Земские силы», «В чужом поле», «Жертва вечерняя» — все в Париже. Но «Солидные добродетели» все были написаны, а не продиктованы; из «Дельцов» — первая часть и главы остальных. Вот и все. Начиная с романа «Полжизни», написанного в Италии летом и осенью 1873 года, все романы, повести и даже рассказы были написаны собственной рукой, стало быть за период времени в 37 лет.
Прежде редакторы печатали ваши вещи, имея в руках одну часть, а иногда и несколько глав. Так печатались и «В путь-дорогу», и «Солидные добродетели», и «Дельцы». Но с 1873 года, когда я стал работать в «Вестнике Европы» у М. М. Стасюлевича, это было уже невозможно. Вы должны были представить ему все произведение, хотя бы в нем было до 35 листов (как, например, в моем «Василии Теркине»). Это приучило меня к более систематической работе, и так длилось с 1873 года до половины первого десятилетия XX века, то есть более тридцати лет.
И ни одной строки беллетристики из всего, что я печатал в «Вестнике Европы», не было продиктовано мною, что не мешало, однако, легенде о моей исключительной диктовке укрепиться и перейти в общее место.
В октябре 1871 года в том же Клубе художников старшина Аристов познакомил меня с С. А. Зборжевской (по театру Северцевой), которая сделалась через год моей женой.
Из ее дебютов на Александрийском театре я был перед тем на одном из них, в комедии Манна «Говоруны». Она играла роль светской женщины — неплохо, но и не так, чтобы я признал в ней несомненное дарование.
Ее сценические средства были прекрасны: красивое лицо, рост, фигура, изящные туалеты. Но чувствовалось во всем, что она не рождена для сцены, что у ней нет темперамента, что театр не нужен ей, как он нужен для прирожденных актрис. На публику она мало действовала, пресса относилась к ней очень сдержанно, и самый влиятельный тогда рецензент Суворин не находил ее приобретением для русской труппы, а между тем она была прямо приглашена на первые роли с большим окладом и бенефисом.