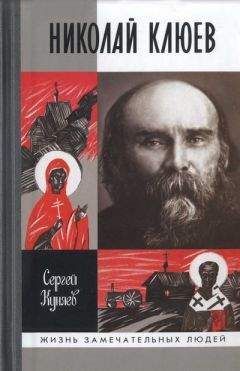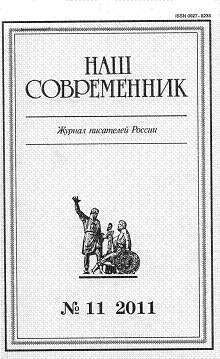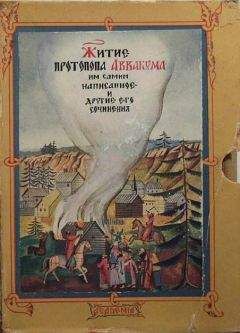И вот 3 апреля 1933 года в редакции «Нового мира» состоялся вечер, посвящённый творчеству Павла Васильева, с последующим обсуждением.
«В самом начале тридцатых годов Павел Васильев, — писал Гронский, — вызывал обоснованную тревогу за судьбу его огромного дарования. Васильев продолжал наведываться к Клюеву, что не могло не настораживать.
Васильева надо было „отстоять“. Поэтому, когда в апреле 1933 года „Новый мир“ устроил творческий вечер Павла, я обрушился на поэта с резкой критикой… Я неодобрительно отозвался о новом произведении Васильева, но сделал это скорее для того, чтобы раскрыть всю полноту ответственности художника за своё творение. Целью моего выступления отнюдь не было „растоптать“ или „облить“ грязью молодого поэта. Свидетельство тому — „Соляной бунт“ начал печататься уже в следующем, майском номере „Нового мира“, ответственным редактором которого я работал».
Гронский многого недоговорил. Чтение стенограммы этого обсуждения показывает, как он «отстаивал» Васильева.
«И. Гронский. — Если народ не знает поэта, если народ не поёт его песен, — грош цена такому поэту… Вот если с этой точки зрения мы подойдём к творчеству всей группы так называемых „крестьянских“ поэтов, то мы должны сказать, что эта группа совершенно напрасно, без всяких на то оснований, приклеивает к себе крестьянскую вывеску. Это не крестьянская, а кулацкая поэзия… Возьмите творчество Клюева, Клычкова и Павла Васильева за последние годы. Что из себя представляет это творчество? Каким социальным силам оно служило? Оно служило силам контрреволюции… Это резко, это грубо. Но это правда… Можно ли переделать этих „крестьянских“ поэтов? Стариков, мне думается, трудно будет переделать… Если бы они хотели служить прогрессу, то есть пролетарской революции, они давно бы это сделали… Да и трудно агитировать этих людей. Им можно лишь сказать: если хочешь сидеть в прошлом, сиди, сиди и жди того дня, когда твой народ забудет о тебе как о художнике. И он забудет. Это единственное, что можно им сказать… Я думаю, что дело заключается в том, что в воспитании Васильева мы проявили некоторое благодушие, мы над ним не работали, а кое-кто другой над ним работал. И, представленный этим людям, Васильев развился не в сторону революции, а в сторону контрреволюции… Васильев должен порвать с той группой, у которой он находится в плену… Васильев как будто делает сейчас шаг в сторону революции, но делает этот шаг очень робко, очень осторожно, очень неуверенно. Так, Васильев, к революции ты никогда не придёшь. К революции надо идти решительно, смело, по-мужицки… Враг нападает — дай ему десять сдач… Васильеву надо прямо сказать, что он сейчас пришёл на некую грань: или он совершит прыжок в сторону революции, или он погибнет как художник… Если хочешь быть поэтом своего народа, поэтом рабочих и крестьян, порви всякие связи с прошлым и шагай в будущее без всякой оглядки. Поставь своё искусство на службу этому будущему, против всякого рабства, против всей той мрази, которая борется с нами из-за угла…»
Напротив Павла Васильева, выслушавшего всё это, сидел как раз «враг» и «мразь, борющаяся из-за угла» — Сергей Антонович Клычков. И вот какой диалог состоялся после всех предыдущих погромных речей между двумя друзьями: уязвлённый и обиженный Павел Васильев сперва попытался защититься, а потом обрушился на своего друга с нешуточными упрёками.
Дело в том, что помимо всего сказанного масла в огонь расчётливо подлил И. Нусинов: «Совершенно верно, что Клычков, как зрелый мастер, никому больше не подражает. Он — самостоятельный писатель. Но когда Васильев начал писать, он, несомненно, подражал Клычкову. Сейчас задача в том, чтобы освободиться от влияния Клычкова… Действительно, когда сейчас приходит поэт, который в годы революции ещё только начал грамоте учиться, и говорит языком Клюева и повторяет этапы Есенина, — то это чистейший анахронизм. Всё это упоение „аржаным“, „избяным“, „бревенчатым“ старо, скучно, запоздало и никого не трогает…»
Васильев бросился на защиту своей чести и своего литературного имени, не щадя ближайшего соратника.
«П. Васильев. — Здесь говорили, что Клычков особенно на меня влиял, что я был у Клычкова на поводу, что я овечка. Достаточно сказать, что окраска моего творчества очень отличается от клычковской, а тем более от клюевской. Я сам хорош гусь в этом отношении. Вообще, если говорить о крестьянских поэтах, — а таковые всё-таки существовали и существуют, — то надо сказать, что, хотя Клычков и Клюев на меня не влияли, у нас во многих отношениях родная кровь. И все мы ребята такого сорта, на которых повлиять очень трудно. Это блестяще доказал Клычков, особенно Клюев. Тут — советское строительство, а с Клычкова как с гуся вода. Должен признаться, что советское строительство и на меня очень мало влияло… Разве Маяковский не пришёл к революции, и разве Клюев не остался до сих пор ярым врагом революции?.. Теперь выступать против революции и не выступать активно с революцией — это значит активно работать с фашистами, кулаками, о которых сейчас говорили. У нас с Сергеем в последнее время был разговор, что нужно решительно выбирать — за или против. Я считаю, что у Клычкова только два пути: или к Клюеву, или в революцию. Сейчас Сергей выглядит бледным потому, что он боится, что его не поймут, его побьют и т. д. Но, к сожалению, должен сказать, что я желаю такого избиения камнями… Клычков должен сказать, что он на самом деле служил по существу делу контрреволюции, потому что для художника молчать и не выступать с революцией — значит выступать против революции.
Клычков. — Это политиканство.
Васильев. — Ты имеешь право назвать меня политиканом, но твои слова ни в чём никого не убедят».
Мы верили ветрам-скитальцам,
Мы песни холили в груди.
Пересчитай нас всех по пальцам,
Но пальца в рот нам не клади.
Эту эпиграмму «На Клюева и К°» Васильев написал примерно в то же время — незадолго до своего отречения. Шутка обернулась жуткой реальностью. Их пересчитали. Определили возможность «перестройки» каждого. И поставили каждому индивидуальное клеймо.
Думаю, что не один раз Павел потом вспоминал свои слова, сказанные в редакции «Нового мира», особенно когда увидел их опубликованными на страницах журнала в то время, когда Николай Клюев уже начал своё «хождение по мукам» в Колпашеве. Не мог Васильев в глубине души не понимать разницы в отношении к нему Клюева и Гронского, не мог не оценить ситуации, в которой оказался. Думаю, многие его позднейшие «срывы» были следствием всё усиливающегося чувства своей вины и порождённым ею ощущением душевного разлада. И не мог он не вспомнить, обдумывая горькие строки о Беломорканале («Хлещет в шлюзы Балтийское море и не хочет сквозь шлюзы идти…»), трагических строк своего учителя, что хранились в его бумагах.