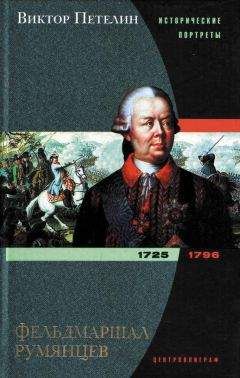В другой работе Глеб Струве, например, утверждает, что Маяковский – это законченный индивидуалист, для которого революция была только «средством побега от самого себя, хотя впоследствии уже он сам бежал от революции», а творчеству Горького послеоктябрьского периода он уделяет несколько страничек, выделяя из его огромного наследия только два рассказа «Карамора» и «Рассказы о героях». Ни «Дело Артамоновых», ни великолепные очерки о Ленине и Толстом, ни «Жизнь Клима Самгина» не удостоились внимания со стороны американского ученого. Да это и понятно: исследователь не стремится к объективной строгости в отборе произведений и авторов. Принцип отбора материала определяется здесь его позицией в идеологической борьбе, позицией человека, активно борющегося против коммунистических идей. Поэтому-то он и выделяет идейно порочные или слабые в художественном отношении произведения, такие, например, как «Шоколад» Тарасова-Родионова, а произведения, в которых показан героический образ вожака народных масс, коммуниста («Железный поток», «Чапаев», «Как закалялась сталь»), обходит или старается показать, что значение их «невелико». Этот же подход к истории русской советской литературы особенно заметен и у автора статьи «Советская литература», опубликованной в «Словаре русской литературы» Харкинса. Профессор Мэтьюсон, казалось бы, более объективен, чем Глеб Струве, в его статье упоминаются и Фурманов, и Серафимович, и Гладков. Но и здесь за внешним объективизмом кроется та же полемика с кардинальнейшими положениями нашей эстетики. Фактически всему советскому искусству автор предъявляет обвинение в натурализме. Так, одно из лучших произведений советского искусства, по мнению Мэтьюсона, – «Чапаев», но «это скорее документальный отчет о необыкновенных событиях», никакого отношения к художественной литературе не имеющий. В «Чапаеве» он видит только документальность, полное отсутствие авторского вымысла, воображения, наивность трактовки основных героев. Его не привлекает и «Железный поток» Серафимовича, которому уделяет всего лишь несколько строк: «Железный поток», по его мнению, «примитивное, хотя и яркое изображение массового героизма большевиков, борющихся против сверхчеловеческих обстоятельств».
Фурманову и Серафимовичу американский ученый противопоставляет Бабеля, и здесь снова выявляется идейная позиция критика: Бабеля он хвалит за «его озабоченность глубокими моральными вопросами, не связанными с политическими доктринами своего времени». И только вскользь упоминается о «смаковании натуралистических подробностей, которое снижает художественную ценность рассказов Бабеля».
Позицию объективизма, беспартийности американский ученый пытается противопоставить тем из советских писателей, которые отдали свое перо на службу народу. Эту позицию объективизма он «открывает» не только у Бабеля, но даже... у Леонова и Федина. И благодаря ей этим писателям удалось даже будто бы открыть «тип лишнего человека» эпохи революции.
Леониду Леонову, по мнению Мэтьюсона, в особенности удалось остаться «аполитичным»: он просто описывал социальные бури. Его роман «Барсуки» Мэтьюсон рассматривает всего лишь как попытку найти меру человеческой правды среди «хаоса и насилия». Мэтьюсон не понял всей глубины идейно-художественной проблематики этого романа Леонова, сузил, ограничил его философское звучание. В «Барсуках» поставлены наиболее острые проблемы литературы 20-х годов: и борьба нового и старого в деревне, и коренные изменения в психологии человека, и влияние пролетарской революции на крестьянское стихийное движение, и роль коммунистической сознательности в революционном движении, и многие другие.
И вот этот роман, в котором позиция писателя предельно четко обозначена как позиция активного сторонника сложного, противоречивого революционного процесса, происходящего в стране, американский ученый представляет как книгу, далекую от политической борьбы своего времени, как книгу «аполитичную». Для чего? Может показаться, что речь идет лишь об отдельных искажениях, неточностях, недопонимании. Но присмотримся внимательнее – и окажется, что все эти отдельные идеологические передержки понадобились ученому для того, чтобы сделать более решительные выводы относительно сущности литературного процесса советского искусства, для представления в определенном духе политики Коммунистической партии в области искусства и литературы. По мнению американского автора, РАПП (Российская ассоциация пролетарских писателей) был создан Коммунистической партией для того, чтобы иметь «официальный орган в литературном секторе культурного фронта» и сделать писательскую работу «инструментом правительственной политики». Мэтьюсон утверждает, что уже в конце 20-х годов якобы было оказано давление на писателей с тем, чтобы заставить их посещать стройки и сделать пафос строительства основным содержанием своих произведений «на уровне лозунгов и популярных агиток».
Мэтьюсон выдвигает, собственно, свою концепцию развития советского искусства, вступающую в противоречие с фактами, ибо эти факты часто подаются очень произвольно. Согласно этой концепции, РАПП выступает у него... защитником реализма, и только рапповские идеологи, по его мнению, провозглашают лозунги «безжалостной правды жизни», создание образа «живого человека» со всеми его достоинствами и недостатками, а после «разгона» РАППа в 1932 г. такая трактовка человека в литературе, по мнению американского ученого, стала считаться «опасно-отрицательной», и призыв сосредоточить свое внимание на изображении человека вне зависимости от его классовой принадлежности был осужден как «психологизирование» и приписан вредному (?!) влиянию Льва Толстого, Флобера и других писателей прошлого. Так, оказывается, что начало первого пятилетнего плана, быстрый рост производительных сил страны, призыв к тесной связи писателя с жизнью, призыв наблюдать жизнь «снизу», в непосредственном контакте с рабочими и крестьянами, переделка человеческих характеров, начавшаяся в результате бурного обновления форм и устоев жизни, – все это было, по мнению Мэтьюсона, «враждебно по своей природе свободному выражению творческого воображения».
Естественно, что в результате такого тенденциозного подхода к советской литературе конца 20-х и начала 30-х годов и оказывается возможным сделать вывод, что «это был период голой экспериментации, который не дал никаких ценных литературных произведений». И тут же одновременно утверждается прямо противоположное – будто бы, «несмотря на строгую цензуру, хорошие (!) писатели продолжали писать хорошо».