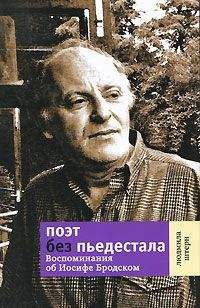Понятно, ИБ не мог ограничиться рутинным и обещанным В+, не имел права, но и признать свое поражение, тем более на его собственном поле, было невыносимо – это я знаю точно. Это было испытание – не только для него, но и для нас всех. Включая мою с ним дружбу. Я давно уже жалела, что свела их с Артемом. Как раз у ИБ была замечательная привычка: не знакомить одних своих приятелей с другими.
Короче, мы с нетерпением ждали реакции профессора Доуэля-Бродского, но никак не ожидали той, что последовала: он просто зарубил курсовую Артема.
– Работа ужасна, стиль неприемлем, в вечную поэзию примешана скоропортящаяся политика, – выдал он Артему, возвращая реферат. – В подробности вдаваться не обязан. Достаточно с меня дискуссий в классе. Сыт по горло.
Артем был сокрушен, раздавлен – речь шла не только о его честолюбии, но о судьбе. Пусть не о судьбе, а о профессии или карьере, хотя кто знает?
Это была моя инициатива, я напомнила Артему о формуле Довлатова: «Иосиф, унизьте, но помогите». Артем попросил ИБ дать ему еще одну возможность, хотя на самом деле это Артем давал ему возможность исправить то, что тот напортачил. ИБ согласился не подавать оценку как окончательную, и Артем засел за новую работу. Выбрал нейтральный сюжет, месяц ишачил, работа вышла вымученной, из-под палки и с постоянной оглядкой, но отвечающая общепринятым стандартам – и понес в деканат. Там ее завернули. Оказалось, еще три недели тому ИБ прислал ведомость с отметками, где против имени Артема стоял «неуд». Артем тут же забрал документы из колледжа и вернулся в Нью-Йорк за куском хлеба на другом поприще.
Я позвонила ИБ:
– Hi, monster. То, что ты сделал, – подлянка, а причина – что ты уже не узнаешь себя. У тебя отшибло память. Ты мертв.
– Ошибаешься, детка. Причина – что я узнал себя. Этим твой бой меня и достал. Тот я не нравлюсь себе нынешнему.
– Ты думаешь, тому тебе понравился бы ты сейчас? – и повесила трубку.
Навсегда.
Нет худа без добра: мы с Артемом перестали тянуть резину и поженились. Не могла я его в такой ситуации оставить одного. Знаю: сказать про человека, что он близок к самоубийству – не сказать ничего. Я спасала Артема, а спасла ИБ – случись такое, было бы на его совести. Она у него и так перегружена. Артем медленно возвращался к жизни. Секс как терапевтика. А для меня секс как секс. И договорились к той истории больше не возвращаться – никогда. На само его имя у нас было наложено табу. До самой его смерти – через семь месяцев. Я была тогда в его Венеции с Шемякой. Маскарад, установка памятника Казанове, пиаровы акции маэстро, я на подхвате: фотограф, переводчик, гид, антрепренер, да мало ли! Сбилась с ног. Фигаро тут, фигаро там.
Работа меня и спасла от погружения в боль, а боль – нешуточная.
Кто знает, мне, может, было хуже, чем Артему: потерять такого, с беспамятного младенчества, друга, друга-наставника – всем хорошим и нехорошим во мне обязана тебе и никому другому. Если б не Венеция, боль одолела меня и прикончила.
Через две недели ты бы приехал сюда, чтобы выступить в Ля Фениче – последняя возможность для нашего примирения. Там и договорились встретиться. И тут на меня обрушился последний удар: твоя смерть.
Голова профессора ИБ
Сноска в тексте
Хоть автор настоятельно отсылает читателей этой книги к обширному своду автокомментариев в более полных «риполовских» изданиях «Post Mortem» 2006 и 2007 годов (в составе книги «Два шедевра о Бродском»), однако вынужден вкратце изложить принцип художественных сдвижек в этой главе. Фон и драйв соединены подставой, или, по-Борхе совски, лжеатрибуцией: схожая история случилась с ИБ в мичиганском университете в Анн-Арборе, а не в Маунт-Холиоке, Саут-Хедли, Массачусетс, где его конфликты со студентами часто кончались разрывом, но до такого драматического крещендо больше не доходили (по крайней мере, у автора нет таковых данных). Причина этого хронологического переноса – сюжетная: ИБ преподавал в Анн-Арборе в самом начале своей университетской карьеры, тогда как Артем, бойфренд Арины, берет два курса у него незадолго до смерти главного героя книги. Да и весь роман, как читатель уже изволил заметить, есть портрет художника на пороге смерти – несмотря на многочисленные набеги в прошлое.
24-летней преподавательской деятельности ИБ посвящено непомерно много воспоминаний и суммарных очерков.
– Какой я замечательный преподаватель, не правда ли? – кокетливо обращается ИБ к аспирантке после одного из своих семинаров.
– Преподаватель вы, честно говоря, никакой, – отвечает ему Валентина Полухина, будущая мемуаристка и исследователь его творчества. Ее книги и мемуар Андрея Сергеева, пусть тот и считал себя Пигмалионом, а Бродского своей Галатеей, – самые-самые из книг о Бродском.
Адекватная с академической точки зрения, такая оценка его преподавательской деятельности не объемлет, понятно, незаурядной личности ИБ, который проявлялся на кафедре редко во всем своем блеске – чаще во всей своей нищете, а потому рядом с комплиментарными отзывами мы находим и весьма критические, на авторов которых яростно, грубо и бездоказательно обрушивается панегерист Лев Лосев в своей агиографии Бродского в ЖЗЛ. И то сказать: составители посвященных ему сборников и организаторы соответствующих семинаров и чтений приглашали к участию в них аристархов, а не зоилов.
Последние со своей ложкой дегтя проклевывались в индивидуальном порядке.
Почти 15-летний тенюре ИБ в Маунт-Холиоке более-менее сносно описан в очерке Константина Плешакова «Бродский в Маунт-Холиоке»
(«Дружба народов», 2001, № 3) – на основании бесед с коллегами и студентами ИБ. Стивом Биркертсом, Питером Виреком, Эдвином Крузом, Питером Скотто, Мэри Джо Салтером, Биллом и Джейн Таубманами и Джо Эллисом. С говорливыми Таубманами (неоднократно) и молчаливой Викой Швейцер (пару раз), самым близким здесь ИБ человеком, комментатор и сам виделся во время лекционных наездов в Пять колледжей и Массачусетский университет в конце 70-х – начале 80-х. Жили мы тогда с Леной Клепиковой в гостевом доме в Амхерсте и общались со всеми, кто так или иначе был связан с Россией (политикал департмент) и русской литературой (славик департмент) – от «последнего акмеиста» поэта Юрия Иваска до молодежного лидера Венгерской революции Ласло Тикоша, переквалифицировавшегося здесь в слависты. Плюс, конечно, рассказы самого ИБ о студентах и его студентов – о нем. Арина права: скорее, чем о конфликтах, можно говорить о физиологической несовместимости ИБ – не со студенчеством, а с американской демократией, которая нигде так наглядно не проявляется, как в колледжах и на кампусе.
Недостаток плешаковского отчета – в весьма приблизительном знании американской вообще и университетско-кампусной фактуры в частности. Случаются у него проколы и в русских реалиях: «Дом под номером 40 на Вулбридж-авеню находится в полукилометре от колледжа. Он был построен 250 лет назад – в середине XVIII века; по российскому счету – во времена Елизаветы и Екатерины. В этом смысле он ровесник ансамблей Росси». Ошибка здесь почти в целое столетие: главные санкт-петербургские ансамбли Росси созданы в 20—30-е годы следующего, XIX века. Понятно, что американских ошибок у Плешакова куда больше – от описания флоры и фауны Массачусетса до физиологии нравов университетской жизни. К примеру, на первой же странице он описывает визиты койотов к мусорным бакам: «Каждый визит вызывает сенсацию, и местная газета не преминет отвести койоту и соответствующему баку всю первую полосу – вне зависимости от того, что творится в Белом доме или на Балканах». Во-первых, койоты, один из звериных символов американского Запада, в Массачусетсе не водятся, специалисты по мусорным цистернам здесь – еноты и черные медведи. Во-вторых, Front Page (первая страница) любой американской газеты, где бы она ни выходила и какой бы у нее ни был тираж, традиционно состоит из дюжины материалов – местных, общенациональных и (реже) международных, которые продолжаются уже внутри газеты.


![Бенгт Янгфельдт - Язык есть Бог. Заметки об Иосифе Бродском [с иллюстрациями]](https://cdn.my-library.info/books/42646/42646.jpg)