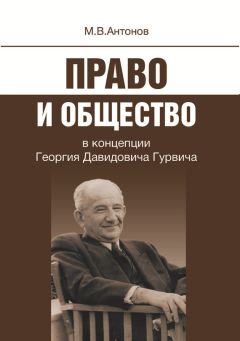Конечно, это слишком сильное и даже парадоксальное утверждение, с которым хотелось бы поспорить. Но дело в том, что в своей концепции, богатой парадоксами, Бергсон, как правило, подчеркивает именно ту сторону оппозиции, которая, на его взгляд, прежде замалчивалась, недооценивалась. Это касается и дилеммы «традиция-новаторство». Бергсон вовсе не отрицал значимости традиции в философии, но в данном случае он имеет в виду другое. Действительно, как часто мы подходим к мыслителю с иными мерками: это взято у одного, то заимствовано у другого – и оказывается, что «король-то голый», ничего своего не осталось. Мысль Бергсона и интересна этой выраженной в особой форме верой: своеобразие, оригинальность, талант неразложимы на части, они либо имеются, либо нет. Переплавленные в горниле философского творчества, слитые с оригинальной мыслью, все влияния и предшествующие традиции приобретают новое качество и безусловно новый смысл.
Если оценивать с такой точки зрения самого Бергсона, то мы увидим у него также одну ведущую идею – «интуицию длительности», как он сам ее называл, считая важнейшим своим открытием. Что это за мысль, как Бергсон к ней пришел и что из этого получилось, мы и попробуем рассказать.
Но вначале остановимся на проблеме источников. Долгое время исследователи философии Бергсона опирались на вполне определенный, сложившийся корпус текстов. В основном это были работы, опубликованные при жизни мыслителя. Они вошли впоследствии в собрания его сочинений («Oeuvres», 1959; «Melanges», 1972) и в трехтомник «Ecrits et paroles» (1957–1959). Эти произведения тщательно анализировались, бергсоноведы предлагали весьма различные их трактовки, но главные моменты были уже более или менее установлены. Среди исследовательской литературы особую группу составляют свидетельства людей, лично общавшихся с Бергсоном и имевших возможность уточнить у него неясные им аспекты его учения. Наиболее важны в этом смысле книги И. Бенруби, Ж. Гиттона, Ж. Шевалье[4]. Ценный и тщательно документированный материал содержится также в работе Р.-М. Моссе-Бастид «Бергсон-педагог»[5]. Изложенные в данных работах факты, касающиеся лично Бергсона, его круга общения, его суждений по разным вопросам, кочевали впоследствии из книги в книгу, послужив подспорьем многим историкам и комментаторам философа. Но вот в мире бергсоноведения произошло событие особой важности, принесшее с собой и новые факты, и новые проблемы.
Сравнительно недавно во Франции была издана часть лекций, которые Бергсон читал в разные периоды своей преподавательской деятельности: в Клермон-Ферране, затем в учебных заведениях Парижа[6]. Лекции были записаны его учениками и слушателями – философом Д. Рустаном, историком Ж. Исааком, географом А. Ваше, писателем А. Жарри и др.[7] Исследование, проведенное специалистами, подтвердило подлинность этих записей. Правда, публикаторам курсов пришлось решать одну сложную проблему, связанную с тем, что Бергсон в своем завещании 8 февраля 1937 г. запретил издание после его смерти каких-либо материалов, не предполагавшихся им самим для печати, причем сделал это в весьма решительной и недвусмысленной форме. Он писал: «Я заявляю, что опубликовал все, что хотел бы обнародовать. Итак, я официально запрещаю издание любой рукописи или какой-либо части рукописи, которая может быть обнаружена в моих бумагах или где-то еще. Я запрещаю публикацию любой лекции, выступления, записанных кем-либо или мною самим. Равным образом я запрещаю публикацию моих писем и возражаю против того, чтобы этот запрет был истолкован так, как в случае с Ж. Лашелье, чьи лекции были предоставлены в распоряжение читателей библиотеки Института[8], хотя он не разрешил их издавать. Отправитель письма полностью сохраняет на него литературную собственность. Ознакомление с содержанием его письма публики, посещающей библиотеку, пусть даже немногочисленной, было бы ущемлением его прав. Почему же к литературной собственности непременно следует относить лишь то, что имеет форму печатного материала? Я прошу моих жену и дочь преследовать в судебном порядке всякого, кто нарушит сформулированный здесь запрет. Они должны будут потребовать немедленного уничтожения подобного опубликованного материала»[9].
Известный французский философ и историк философии Анри Гуйе в предисловии к первому тому лекций размышляет о причинах столь категорического запрета Бергсона на издание даже тех материалов, которые не имеют отношения к его частной жизни, – не только того, что было записано кем-то, но и его личных записей собственных лекций. С точки зрения Гуйе, это связано с самим бергсоновским пониманием философии как «позитивной метафизики»: «позитивной» – то есть строго обоснованной, не уступающей в этом смысле естественным наукам. «Если философия – это наука, философ должен поступать так же, как ученый. Ученый исчезает за наукой; физик или биолог принимают в расчет лишь те гипотезы, которые они могут верифицировать. Следовательно, Бергсон хочет оставить под своим именем только решенные проблемы. Он различает то, что он думает как человек, и то, что знает как философ; о том, что ему известно как философу, он пишет в своих книгах; то же, что он думает как человек, остается в области того диалога с самим собой, каким является душевная жизнь. Вот почему Бергсон, как мы видели, принял все возможные предосторожности, чтобы обмануть любопытство тех, кто не проявил бы должного уважения, пусть и в сфере метафизики, к тому, что можно назвать этикой научного исследования»[10].
Но, продолжает Гуйе, не стоит забывать и о том, что прошло уже более ста лет со времени начала философского творчества Бергсона и обстоятельства коренным образом изменились; Бергсон вошел в историю философии, присоединившись там к Платону и Аристотелю, Декарту, Спинозе, Канту и Гегелю. «Войти в историю – значит стать объектом знания, а знание не выбирает: нам интересно все, что интересует Декарта; историк суверенен в галерее знаменитых людей… никто не задается вопросом о том, понравилось бы Паскалю палеографическое издание его заметок или доставило бы удовольствие Мен де Бирану полное издание его дневника и набросков. Когда знаменитый человек вступает в эту, но выражению Шарля Дюбоса, “незыблемую высь”, он более не принадлежит полностью самому себе – в той мере, в какой принадлежит тому, кто пишет историю» (р. 8). И запрет Бергсона был нарушен уже вскоре после его смерти. В 1949 г. с разрешения его дочери, Жанны Бергсон, были опубликованы его письма к А. Аде и заметки, которые Бергсон сделал после прочтения посвященной ему статьи Аде. Это стало прецедентом; а позже Альбер Нойбургер, шурин философа, в конкретных случаях принимал решение, обсудив ситуацию с Ж. Валем, В. Янкелевичем и Ж. Гиттоном, – к тому времени только они трое оставались в живых из тех людей, кому Бергсон в своем завещании поручил защищать его память.
Лекции, о которых идет речь, хранились (и хранятся по сей день) в Высшем педагогическом институте (Ecole Normale), в Коллеж де Франс, в Библиотеке им. Виктора Кузена и в составе фондов Бергсона в Библиотеке им. Жака Дусе (Doucet), где к ним можно было вполне свободно обращаться. Поэтому публикация их была, вообще говоря, просто делом времени. И когда в середине 1980-х гг. парижский философ Анри Юд предложил их наконец издать, стало ясно, что ситуация изменилась. Со дня смерти Бергсона прошло к тому моменту больше 40 лет, но исследовательский интерес не угас, и это было, по словам Гуйе, свидетельством «присутствия Бергсона в современном мышлении» (р. 9). В 1985 г., когда обсуждался данный вопрос, два человека имели право на решение; Анни Нойбургер, представлявшая семью Бергсона, и Жан Гиттон, французский философ, лично знакомый, как упоминалось выше, с Бергсоном. Гиттон доверил это дело А. Юду, при условии почтения к памяти мыслителя. Анни Нойбургер, посоветовавшись с Анри Гуйе, как это уже делал в сходных обстоятельствах ее отец, Альбер Нойбургер, тоже дала согласие. Таким образом сложная эта проблема была наконец решена, и четырехтомник лекций Бергсона стал достоянием широкой аудитории.
Но здесь-то и возникает одна интересная, собственно герменевтическая проблема. Следует учесть, пишет Гуйе, что Бергсон-преподаватель «не является непременно бергсонианцем» (р. 10). В самом деле, в «Лекциях» Бергсон предстает с новой, непривычной стороны, напрашиваются иные интерпретации его идей. Философ, посвятивший многие годы жизни преподаванию, читал лекции по предметам, входившим в официальную программу: по психологии, этике, метафизике, эстетике, истории философии, логике; комментировал классические философские труды. Конечно, это была иная форма деятельности, чем собственное его творчество, хотя полностью их невозможно развести. Бергсон должен был в определенной мере выполнять требования программы, учитывать уровень подготовки учеников. Мы видим Бергсона-психо-лога, историка психологии и философии, лучше понимаем, что именно интересовало его в этих дисциплинах, какую философскую литературу он читал и ценил, с какими течениями себя соотносил. Выявляется множество новых аспектов его творчества, позволяющих что-то уточнить и прояснить. Так, в курсе психологии он последовательно освещает основные проблемы психологии его времени – учения об ощущениях, восприятиях, сознании, – вполне в духе тех традиционных курсов, которые читали во Франции на протяжении XIX века видные философы, будь то «идеологи», представлявшие свои взгляды по поводу происхождения и развертывания идей, или философы-спиритуалисты разных направлений (мы подробнее скажем об этом в главе 1). Здесь особенно ясно очерчивается та традиция, которую Бергсон унаследовал и развил в 80-х годах XIX века. В то же время Бергсон-преподаватель (особенно в начальный период, еще до защиты диссертации) – это действительно, скажем так, еще «докритический» Бергсон, близкий по взглядам к ламарковскому эволюционизму и вполне лояльно настроенный по отношению к эклектической школе Кузена, о котором впоследствии будет отзываться куда более сурово. Вообще здесь многие темы, в изложении которых позднее выразилось подлинное новаторство, оригинальность Бергсона, сильно «смазаны», приглушены.