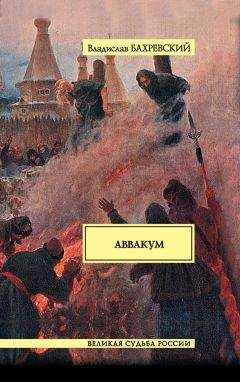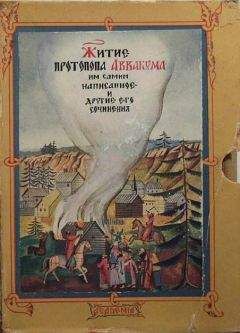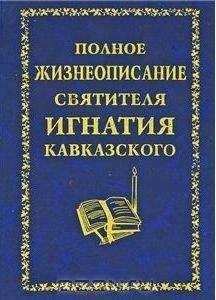Злость отца дьякона только пуще развеселила. А тут и Аввакум явился от Черткова весьма смущенный – гулящую бабу отдали ему под начало.
2
Злоба – работница стоухая, стоглазая. Сна не знает, устали не ведает. Ей хоть потоп, хоть пожар – не оставит своего дела. Да не то страшно! Страшно, что ей, тихоне, ничто человеческое не чуждо. В горе – горюет, в радости – радуется, а ножик-то наготове. И ведь как памятлива!
Иван Струна в отлучке был. Через неделю только приехал, и тотчас ему доложили: дьякон Вознесенской церкви Антон называл его, почтенного приказного дьяка, кобелем и бесчестил, говоря, что он-де, Иван Струна, ни одной сучки не пропустит и на всякую бабу облизывается, как на пряник.
– Да я бороду ему с морды на зад вихлястый перетяну! – заскрипел зубами Иван Струна.
Шептуну и то страшно стало: представил себе дьякона Антона с бородой не на своем месте.
Однако гнев этот, полыхнувший молнией по Тобольску, случился через неделю, а пока город судачил об Аввакуме, взявшемся за душеспасение красавицы блудницы.
Аввакум посадил ее в погреб, где стояли квашения. Погреб был сухой, но зело холодный.
Баба со зла матерщинничала, разговаривать по-хорошему не хотела. Протопоп велел узнать, как ее зовут, и первый же зевака из толкавшихся вокруг дома сказал: Гликерия.
Аввакум начал исправлять заблудшую рассказом жития святой Гликерии.
– Да ведомо будет тебе, дурище, – говорил протопоп, сидя возле чуть сдвинутой крышки подпола, – наречена ты, матушка моя, именем, кое носила женщина высокого рода. Отец святой Гликерии служил градоначальником Рима, сиречь ближний боярин был. Впоследствии же он переселился во Фракию, в Троянополь, где и скончался.
– Мели, Емеля! – орала из подполья Гликерия Тобольская.
Аввакум прерывал рассказ, молился, читал Писание. Гликерии ругаться без толку надоело. И как только она умолкла, протопоп упрямо продолжил прерванную историю:
– Защитница твоя Гликерия, ставши христианкой, решила пострадать за Христа. В день сатанинского поклонения идолу Зевсу явилась она в капище, начертав на лице своем знамение креста. Подумаю про то – слезы сами собой катятся. Стоит она, милая, одна средь сонмища язычников, Бога хвалит, а о язычниках плачет. По ее молению ахнуло громом по идолищу. Зело велик был, а развалился на куски, как горшок какой! Правитель города и жрецы от ярости зафыркали по-кошачьи, за каменья схватились. Всяк небось в том городе хоть раз, да пульнул в святую. Но ни единый камень не поразил ее. Тогда уж что? У всех властей одно лекарство – выпороть да в темницу, но и тут незадача. Палачи подступили к Гликерии – и россыпью от нее, как мыши. Ужасом Господним разметаны были, явился на защиту святой девы сам ангел… Ну, да в покое, однако ж, не оставили. Правитель на ночь-то сам запер милую в темнице, своим перстнем наложил на замки печати.
– Закрой подпол! – завопила вдруг Гликерия Тобольская. – Свечами от тебя, протопоп, несет! Тьфу!
Аввакум, распалясь рассказом и думая, что блудница его заслушалась, обиделся, умолк.
– Бес с тобой! Послухаю! – смилостивилась неистовая сиделица, и Аввакум, водрузив на себя, как горб, пастырское смирение, тотчас продолжил рассказ:
– Может, с месяц гладом бедную морили. Когда же правитель собственноручно отворил запоры, то увидел – Гликерия жива, здорова, весела, ибо воду и пищу ей носил ангел. Правитель пофыркал-пофыркал да и отправил святую деву в Ираклию. Там долго не думали – ввергли в огненную пещь. Но что верующему огонь? В ножки белые поклонился деве да и погас. Опять палачам работа – содрали с головы святой кожу и нагую бросили на острые камни. Нам, маловерам, и толики испытаний Гликерииных не пережить, а святая терпела да молилась. И снова явился к ней ангел, исцелил и красоту не токмо вернул, но и утроил.
– Так ничего ей и не сделалось? – спросили из подпола.
– Ох, милая! Палачи, как сатана, устали не знают. Отдали святую на съедение диким зверям. Первая львица ножки ей языком вылизала, но палачи не умилостивились. Тогда Гликерия помолилась Богу, чтоб взял он ее душу на небо. Тут и выпустили на нее еще одну львицу. Исполняя Промысел Божий, львица убила святую, но чтоб разорвать – ни!
– Чего же от нее хотели-то, от тезки моей? – спросила Гликерия.
– Хотели, чтоб идолам поклонилась.
– Ну и поклонилась бы!
– Ох ты Господи! – простонал Аввакум. – Будешь сидеть, пока сердцем не прозреешь, вражьи твои уста, сосуд похоти, бесово утешение!
А баба хохотать – допекла протопопа!
Дури ей хватило на три дня.
Одна в дому оставаться Анастасия Марковна побаивалась, соседки к ней приходили, сиживали с рукодельем до обеда, до прихода Аввакума.
Сына Ивана, старшого, гулять выпроваживали. Агриппина с Корнилкой играла, чтоб не напугался. Прокопка сидел, прижавшись к материнским ногам, резал из деревяшек крестики.
А из подполья весь день напролет без устали неслась саженная брань, да такая, что и мужикам ругательским этакое на язык и во сне не навернется.
Марина, бедняжка, от печи не отходила, рогачами да чугунами грохала, но перегрохать подпольную грозу все же не умела и потому повязалась двумя платками, чтоб хоть не всякое поганое слово слышать.
Ночью тоже покоя не было. Протопоп по привычке встанет на молитву, а Гликерия услышит его да и опять за матюги. Только на одной воде, без хлеба, долго не покричишь. Бочки с грибами, капустой, огурцами – рядом, да цепь не пускает.
3
Примолкла Гликерия.
На четвертый день в ужин зарыдала, взмолилась прежалобно:
– Виновата, Петрович! Согрешила перед Богом и перед тобою! Прости меня, грешную! Наука твоя мне надолго.
Аввакум возрадовался, слыша раскаянье, и тотчас велел пономарю вынуть блудницу из погреба.
Вышла бледна, тиха – человек человеком.
– Хочешь ли вина и пива? – спросил ее протопоп, переиначив слова наставительной «Повести о целомудренной вдове».
– Нет, государь! – прошептала Гликерия. – Дай, пожалуйста, кусочек хлебца.
Аввакум еще пуще возрадовался.
– Разумей, чадо! Похотение блудное, пища богатая, питие хмельное рождают в человеке и ума недостаток, и к Богу преозорство да бесстрашие. Наедшися и напився пьяна – скачешь, яко юница, быков желаешь и, яко кошка, котов ищешь, смерть забывше.
Дал ей свои четки, велел поклоны перед Богом класть. Сам рядом на правиле. За нее же, бедную, и молится.
Гликерия стучит лбом об пол, а глаза-то у нее, как у птицы пойманной, закатываются. Кланялась, кланялась, да и – хоп!
– Силенок нет?! – взъярился Аввакум. – На блуд и мятеж – здорова, а как на молитву – так разлеглась коровой! Пономарь! Шлепов ей!
Пономарь протопопа как огня боялся. Шлепов так шлепов! Не так что сделаешь – отдубасит! На руку протопоп скор, хоть и отходчив.