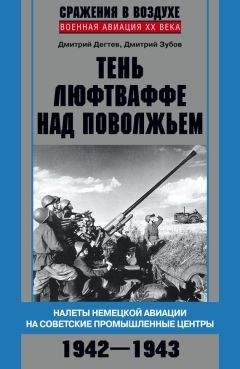В таких неравных, тяжелейших условиях проявлялось мужество советских воинов. Как сейчас вижу начальника штаба нашего, 94-го, погранотряда майора Врублевского. В парадном обмундировании, бледный, но внешне спокойный, стоял он на открытом шоссе и командовал боем. Это пренебрежение к смерти воодушевляло бойцов, мы били немцев, невзирая ни на что: ни на их численное превосходство, ни на их превосходство в военной [234] технике, ни даже на собственную смертельную усталость. Здесь каждый был героем.
Судя по количеству танков, брошенных на Энскую высоту, немцы, видимо, рассчитывали встретить там сопротивление как минимум нескольких воинских подразделений, а не единственного разбитого погранотряда, и без того уже измотанного боями и отступлением от самой границы. Бой был поистине смертельным: стремясь сломить наше сопротивление, уничтожить советские войска, фашисты неистовствовали: не разбирая, где живые, где мертвые, они давили людей гусеницами танков, а шедшая следом пехота расстреливала из автоматов всех, кто еще мог двигаться. Когда наши силы практически иссякли, отряд получил приказ отходить через плотину на восточную сторону реки. Но было поздно — первые же бойцы, показавшиеся на плотине, попали под мощный кинжальный огонь. Мы поняли: отступление по плотине невозможно, оставался один путь — через болото, и мы двинулись в восточном направлении. На нашем пути было несколько немецких пулеметных точек, но это еще не самое страшное — пулеметчиков мы быстро ликвидировали, а вот немецкие танки и пехота тем временем подошли к нам практически вплотную. Отряд был окружен, и мы решили попытаться прорывать вражеское кольцо. Собрав на окраине деревни оставшиеся силы, отряд двинулся вперед, но неожиданно нарвался на фашистскую засаду. Завязался неравный бой.
В первые же минуты этого боя меня ранило в ногу осколком мины. Бросив гранату в немецких пехотинцев, бежавших прямо на меня, я отполз к обочине дороги и затаился там в небольшой ложбинке. [235]
Вижу, метрах в ста от меня, движется по дороге вражеский танк, а на броне его сидят автоматчики и механически поливают огнем местность. Заметив движение, немцы стали стрелять в мою сторону. Я замер. То ли враги сочли меня мертвым, то ли их что-то отвлекло, но огонь переместился в другую сторону. Выждав время, я медленно перевернулся на живот и постарался незаметно переползти из ложбинки в более глубокий придорожный ров. Немцы снова открыли по мне огонь, но я был уже недосягаем для их пуль. Сразу за рвом росли кусты шиповника, широкой полосой окаймлявшие дорогу, а за кустами начиналось пшеничное поле.
Садилось солнце. Если бы не война, я бы наверняка залюбовался, глядя, как в его предзакатных лучах переливаются волны высокой золотой пшеницы. Но за спиной разрывались снаряды, трещали пулеметные очереди; воздух был пропитан запахом пороха и тротила, а поле изрыто гусеницами вражеских танков. Вдалеке маячил островок нетронутой пшеницы, и я пополз туда, не замечая красот природы, мечтая лишь об укрытии. Было жарко, очень хотелось пить. Я полз, оставляя за собой кровавый след — рану забинтовать было нечем. Свой индивидуальный пакет я истратил на перевязку товарища, раненного в живот незадолго до того, как я получил свой осколок в ногу. Рана адски болела, но я полз и полз до тех пор, пока не потерял сознание.
Очнулся я на холодном полу в большом неуютном помещении, расположенном, как я узнал позже, на станции Пепельна. Первым, кого я увидел, [236] был мой товарищ с погранзаставы — Иван Прохоров, со Смоленщины. Он склонился надо мной, и я, пересилив свою слабость, спросил его: «Ваня, где мы?» Наверное, я говорил очень тихо, так как Иван не расслышал моих слов. Я переспросил, и он ответил: «Мы военнопленные…»
Его ответ стал для меня настоящим ударом. «Я пленный», — повторял я про себя и не верил. Вспомнились книги, читанные в детстве, — рассказы о людях, попавших во вражеский плен. Мне, мальчишке, школьнику, герои этих книг представлялись сильными, мужественными, обязательно пожилыми людьми и почему-то непременно с усами. Я же, безусый мальчишка, и вдруг — «пленный». Промелькнула спасительная мысль: «Иван что-то путает!» Я попытался подняться на ноги, но сильнейшая боль бросила меня обратно на грязный холодный пол. Я попросил Ивана приподнять меня, и увидел вокруг себя людей — военных, без головных уборов, без ремней, с лицами угрюмыми и растерянными. Я снова лег на пол и попытался вспомнить все, что произошло со мной в последнее время. Перед глазами встал бой, затем ранение, пшеничное поле… Как же я оказался здесь? Ответа не было.
Уже давно ночь, болит нога, никак не могу уснуть. Очень хочется пить, во рту пересохло, а воды нет. Вокруг слышны стоны, проклятия. В воспаленном мозгу одна мысль: я пленный. Почти одновременно рождаются десятки планов побега, один невероятнее другого. Но за дверью — тяжелые шаги фашистов, и ранение не дает о себе забыть ни на секунду. А пленные все прибывают и прибывают.
На станции Пепельна немцы продержали нас около недели, затем под дулами автоматов вывели [237] на перрон. Здоровых построили в колонну, раненых уложили на телеги и погнали пленных в Житомир. Всю дорогу кормило нас местное население, жители окрестных деревень, сами недоедавшие, несли продукты пленным бойцам. Даже когда нас держали на станции, женщины приносили еду в узелках.
В Житомире нашу колонну загнали на участок, огороженный колючей проволокой прямо в чистом поле. Этот временный «лагерь» был уже достаточно обжит — военнопленных за «колючку» было согнано много. В одном из углов этого загона существовал даже свой лагерный «госпиталь». Врачи и другой медперсонал, сами военнопленные оказывали посильную помощь раненым бойцам. Медикаментов не было, не было даже перевязочного материала — стирали чужие окровавленные, гнойные бинты. Неудивительно, что у многих раненых в ранах копошились черви, а в «госпитальном» углу стоял тяжелый гнилостный запах — запах разложения.
Кормили нас в этом «лагере» кониной — мясом лошадей, убитых на поле боя, и немецким хлебом, испеченным еще до войны: снаружи он был еще похож на хлеб, но стоило его разломить, как над буханкой поднималась зеленая пыль.
Так начались мои странствия по фашистским лагерям. Из Житомира вскоре нас переправили в Ровно, затем в Ковель, где мы жили в землянках, а спали на голой земле. Затем — пересыльный лагерь уже в самой Германии: огромная огороженная территория и полное отсутствие каких бы то ни было жилищ. Здесь я понемногу начал ходить.
Стоял октябрь, а у нас не было ни сапог, ни шинелей, ни шапок. Мы устраивали себе жилища, кто как мог — чаще всего выкапывали ямы в песке и покрывали [238] их корнями деревьев, попадавшимися при копке. По утрам палками и плетками выгоняли нас немцы на поверку. Мы возмущались подобным издевательствам над советскими гражданами! Тогда еще мы не знали, что эти мучения были лишь преддверием, лишь началом тех мук, что нам пришлось вынести впоследствии, в куда более жутком месте, чем это.