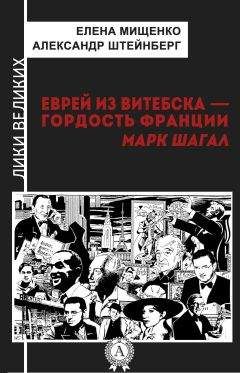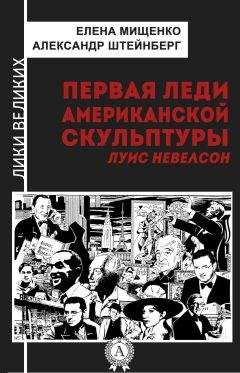Наконец, в 1906 году он поступает в Школу живописи и рисования художника Пэна. Он сам пишет, что гипсовые постановки, несмотря на все его старания, выходили не очень удачными. Но именно Пэн пробудил в нем страсть к живописи и рисунку. Эта школа определила всю его последующую жизнь.
Одной из первых натурщиц молодого художника стала прекрасная Белла Розенфельд, его первая любовь, а впоследствии его жена.
И вот с 27 рублями, полученными от отца, 20-летний Марк отправляется в Петербург учиться живописи.
Для того чтобы еврею жить за чертой оседлости, нужно специальное разрешение. Отец достал ему временное удостоверение от какого-то торговца на закупку товара.
В Петербурге ему удается поступить в прислуги к адвокату Голдбергу. Адвокаты имели право держать слуг-евреев. Это была удача для Марка. На оплату комнаты денег не хватало – он снимал угол. Марк посещал художественную школу при Обществе поощрения художеств, а затем школу живописи и рисунка Звягинцевой.
Как и всякого художника, его тянуло в центр мировой живописи – в Париж. И вот мечта его осуществилась: в 1910 Марк Шагал едет в Париж!
Здесь, в Париже, Шагал познакомился и подружился с Пабло Пикассо, Амедео Модильяни, Гийомом Аполлинером. Рядом с ним работают талантливые художники и скульпторы, ставшие впоследствии знаменитыми, тоже выходцы из еврейских местечек и городов: Осип Цадкин из Смоленска, Хаим Сутин из Минска, Давид Штеренберг из Житомира, Натан Альтман из Винницы.
Шагал жадно изучает старинную живопись и впитывает новые веяния, но стиль у него формируется свой – шагаловский, и тематика все та же, родом из детства. Особенно это видно в картинах «Скрипач», «Свадьба», «Беременная женщина», «Молящийся еврей».
В Париже Шагал участвует в выставках, у него состоялась персональная выставка и в Берлине. Все это интересно и хорошо, но прекрасные черные глаза Беллы влекут его назад, в Витебск. Она его ждет: его любовь, его невеста.
В 1914 году Шагал возвращается в Витебск, женится на Белле Розенфельд и молодые переезжают в Петербург. Шагал становится непременным участником всех московских и петербургских выставок. В бурные годы революции Шагал переезжает в родной Витебск. Теперь он, одержимый планами переустройства образования и вовлечения широких масс в искусство, является уполномоченным по делам искусства. Он основывает художественное училище и музей, приглашает для преподавания Пэна, Ромма, Малевича и других художников.
Город заполнили взметенные над улицами шагаловские коровы и лошади, раскрашенные зелеными и красными красками.
Шагал становится руководителем организованной им Витебской академии художеств. Он считал, что лишь один знает, какое искусство нужно революционному Витебску. Но другого мнения придерживались его собратья по искусству. Эмоциональной восторженности Шагала, его свинкам, коровам и лошадям Малевич противопоставил свой супрематизм. На фоне заикающейся речи Шагала его четкие высказывания звучали убедительнее. В Витебской академии художеств начался раскол.
Административная работа давалась Шагалу нелегко. Он метался по командировкам, добывая хлеб, краски, кисти, деньги. Ездил за поддержкой к Максиму Горькому. Во время одной из таких поездок, воспользовавшись его отсутствием, педагоги подняли бунт. Бедный руководитель Академии оказался смещенным. Педагоги растаскали казенное имущество, включая краски и картины, и разбрелись, бросив учеников.
Шагал оказался не у дел. Он отправляется в Москву. Москва 20-х годов встретила художника довольно приветливо – это было в его духе.
Жизнь бурлит, повсюду устраиваются митинги поэтов, актеров, художников. Шагала тепло принимают деятели культуры самых различных направлений. К нему хорошо относились столь разные поэты, как Маяковский, Есенин. Сергей Есенин приветствовал его со сцены на поэтических вечерах, а Маяковский подарил ему свою книгу с надписью: «Дай Бог, чтобы каждый шагал как Шагал!» Художники относились к Шагалу с некоторым недоверием. Его искусство было, пожалуй, чересчур своеобразным.
В это время открывается Еврейский камерный театр Грановского и приятели рекомендуют его туда художником-декоратором. Как писал впоследствии Абрам Эфрос «для театра настали черные дни». Шагал заперся в театральном зале и не выходил оттуда. На условный стук он открывал дверь ровно настолько, насколько Эфрос мог просунуть туда бутерброды. Актерам негде было репетировать. Шагал закончил расписывать декорации и принялся за театральный занавес. Окончив работу над занавесом, он перешел на стены и потолок, окончив потолок, он взялся за стулья и ограждения рампы. Близился час премьеры. Через ту же щель Шагал сообщал, что никого на премьеру не пустит, так как зрители могут испортить его живопись!
В день премьеры он во время действия выбегал из-за кулис и гонялся по сцене за Михоэлсом с кисточкой в руках, стараясь изобразить на его костюме какую-нибудь лошадку вверх ногами.
Наркомпрос предложил Шагалу преподавать рисунок в колониях для бездомных детей. Он с удовольствием принял предложение.
Преподавание Шагал любил, но это занятие не давало никаких доходов. Картины не покупались. Огромная работа, выполненная в Еврейском театре, осталась неоплаченной. Два года ездил Шагал по приемным чиновников от культуры, собирал подписи и резолюции, но так и не получил ни копейки.
Интересна дальнейшая судьба этих декораций. В 1987 году в Москву приехала из Парижа Кристина Бирюс, искусствовед. Она занималась подготовкой выставки русского периода творчества Шагала. Ей удалось обнаружить декорации Шагала в запасниках Третьяковской галереи, но в очень плачевном состоянии, они попросту рассыпались. Началась тщательная реставрация, восстановление полотен. И в 1989 году в Швейцарии открылась выставка «Русский период Марка Шагала», которая сразу привлекла к себе внимание мировых ценителей искусства.
Перед зрителями предстали удивительные по своей чистоте и непосредственности восприятия декорации-фрески, выполненные в далекие 20-е годы в России: «Свадебный стол», «Музыка», «Танец», «Литература». На этом полотне изображен очень серьезный переписчик Торы, из-за плеча которого выглядывает корова, на фреске «Музыка» – скрипач, стоящий на крыше дома, образ, ставший впоследствии столь популярным.
Но в 20-е годы эту работу не приняли, ее не хотели оплачивать даже по самой низшей категории. Бедствующий и голодающий художник писал:
«Ни царской России, ни России советской я оказался не нужен. Я им здесь непонятен, я чужой. Вот Рембрандт, я уверен, меня любит. Может быть, нЕвропа меня полюбит, а потомуже и она – моя Россия».